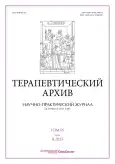Current status and prospects of using potassium-competitive acid blockers in gastroenterology
- Authors: Maev I.V.1, Andreev D.N.1, Zaborovsky A.V.1, Fomenko A.K.1
-
Affiliations:
- Russian University of Medicine
- Issue: Vol 97, No 8 (2025): Treatment issues
- Pages: 611-617
- Section: Editorial article
- Submitted: 15.07.2025
- Accepted: 15.07.2025
- Published: 28.08.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/687586
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.08.203381
- ID: 687586
Cite item
Full Text
Abstract
Over the past decades, acid production in the stomach has been regulated mainly by proton pump inhibitors (PPIs). However, despite their widespread use and solid evidence base for efficacy, PPIs have pharmacokinetic and pharmacodynamic limitations, such as a slow onset of action, response variability (dependent on CYP2C19 polymorphisms), and the need for activation in an acidic environment. These restrictions underscore the need for innovative molecular approaches to inhibiting acid production, which led to the development of a fundamentally different mechanism of action – potassium-competitive acid blockers (P-CABs), first introduced into clinical practice in 2015. The mechanism of action of P-CABs is based on a reversible ionic interaction with hydrogen potassium adenosine triphosphatase (H+/K+ ATPase) in parietal cells of the stomach. Direct inhibition of the active enzyme enables more rapid and sustained control of gastric secretion, including nocturnal and postprandial acid production, making this class of drugs particularly relevant in the treatment of gastroesophageal reflux disease, peptic ulcers, and in the eradication of Helicobacter pylori. Recent meta-analyses demonstrate the clinical benefits of P-CABs over PPIs for these indications.
Full Text
Список сокращений
АТФ – аденозинтрифосфат
ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
ДИ – доверительный интервал
ИПП – ингибитор протонной помпы
КЗЗ – кислотозависимое заболевание
К-КБК – калий-конкурентные блокаторы кислотопродукции
ОР – относительный риск
РКИ – рандомизированное контролируемое исследование
ЭТ – эрадикационная терапия
ЭЭ – эрозивный эзофагит
Введение
В настоящее время лечение кислотозависимых заболеваний (КЗЗ), таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, – актуальная проблема современной клинической гастроэнтерологии [1, 2]. Этот факт обусловлен не только широким распространением КЗЗ в популяции, но и хроническим паттерном течения этих заболеваний, характеризующимся затяжными обострениями и частой обращаемостью больных за медицинской помощью [2]. Несмотря на гетерогенность этиологических процессов, КЗЗ объединяет общий патофизиологический фактор – кислотно-пептическая агрессия желудочного сока. Общность этого патофизиологического звена определила единую терапевтическую мишень – блокаду синтеза соляной кислоты (HCl) на различных этапах ее продукции, главный из которых – протонная помпа париетальных клеток [2, 3].
Молекулярные механизмы продукции соляной кислоты
Протонная помпа (Н+, К+-АТФаза) относится к Р-типу АТФаз, участвующих в транспорте ионов через клеточные мембраны [1–3]. Она представляет собой гетеродимер, состоящий из 2 субъединиц: α-субъединица (114 кДа) выполняет транспортные и каталитические функции, β-субъединица (35 кДа) – гликопротеин, увеличивающий массу до 55 кДа после гликозилирования [4, 5]. Последняя локализована на внеклеточной стороне и обеспечивает встраивание фермента в мембрану [4]. Субъединицы прочно связаны и разделяются лишь при воздействии детергентов, разрушающих нативную конформацию [4]. α-субъединица содержит сайты связывания и гидролиза АТФ, включая участок фосфорилирования (Asp-385), и образует ионный канал в составе 10 трансмембранных сегментов [5–7]. Около 70 аминокислотных остатков α-субъединицы локализуются на внешней стороне мембраны, тогда как остальные формируют обширный цитоплазматический домен. Подвижные домены 5 и 6, соединенные петлей, играют ключевую роль в транспорте ионов и взаимодействии с ингибиторами протонной помпы (ИПП), такими как сульфонамиды [1, 5, 8].
В активной фазе Н+, К+-АТФаза транспортирует протон из цитозоли париетальной клетки в просвет секреторного канальца и одновременно возвращает внутрь ион K+; энергию этому процессу дает гидролиз аденозинтрифосфата (АТФ) [1, 3–5, 9]. В конформации E1 фермент, обладающий высоким сродством к АТФ и иону H3O+, связывает их на цитозольной стороне, после чего происходит фосфорилирование и закрытие внутреннего участка канала [1, 5]. Переход в конформацию E2-Р открывает внешний затвор, протон высвобождается, а к наружному сайту присоединяется K+ [5, 7]. Дефосфорилирование вновь закрывает внешний затвор, временно «окклюдируя» K+; возврат к E1 раскрывает внутренний затвор и выпускает ион в цитозоль, после чего цикл повторяется [2, 5]. Таким образом, каждое фосфорилирование-дефосфорилирование обеспечивает строго последовательный обмен одного H+ на один K+ за счет одной молекулы АТФ [1, 10].
Париетальная клетка обеспечивает секрецию соляной кислоты за счет скоординирированной работы нескольких ионных транспортных механизмов. Центральное место занимает Н+, К+-АТФаза, осуществляющая обмен H+ и K+ через апикальную мембрану (рис. 1) [3, 9, 10]. Однако для формирования полноценного секрета необходим также выход Cl-, что обеспечивается Cl--каналами (CLIC-6, CFTR, SLC26A9) и К+-каналами (KCNQ1, KCNJ15, KCNJ10), поддерживающими ионный баланс в просвете секреторных канальцев [1, 4, 11–13]. В результате в просвет выделяются H+ и Cl-, образуя HCl, а K+ рециклируется между клеткой и внешней средой [1, 2, 5, 6, 9]. Поступление Cl- в клетку осуществляется через антипортер SLC4A2 (обмен HCO3-/Cl-) и другие транспортеры базолатеральной мембраны – NKCC1 и канал SLC26A7 [1, 14, 15]. HCO₃- синтезируется под действием карбоангидразы, использующей CO2 как исходный субстрат [3, 9, 10]. Протон формируется из воды, при этом наличие буферных систем предотвращает ощелачивание цитозоля [5]. В ходе недавних исследований на базолатеральной мембране париетальных клеток идентифицированы К+-экспортеры, подавляющие кислотопродукцию: электронейтральный K+/Cl--котранспортер (KCC3α) и кальций-активируемый К+-канал промежуточной проводимости (Kcα3.1) [16, 17].
Рис. 1. Ионные транспортные системы париетальной клетки, задействованные в кислотопродукции.
Примечание. КА – карбоангидраза.
Fig. 1. Ionic transport systems of the parietal cell involved in acid production.
Выделяют 3 фазы желудочной секреции: цефалическую, желудочную и кишечную. Цефалическая фаза запускается под влиянием запаха и вида пищи, с активацией парасимпатической иннервации и высвобождением ацетилхолина из постганглионарных холинергических нейронов [1, 3, 18]. Желудочная фаза начинается при поступлении пищи в желудок и активации механорецепторов. Ответный сигнал через блуждающий нерв усиливает секрецию, а также активируются гуморальные и паракринные стимулы – гастрин (G-клетки) и гистамин (ECL-клетки) [3, 9, 19]. Кишечная фаза возникает при эвакуации химуса в двенадцатиперстную кишку. При снижении рН ниже 4 активируется симпатическая система, подавляющая секрецию; медиатором здесь выступает норадреналин [3, 19]. Секреторная активность париетальных клеток регулируется нейральными, гормональными и паракринными влияниями [1, 3, 18]. Основные стимуляторы – ацетилхолин, гистамин и гастрин; основные ингибиторы – соматостатин и простагландины Е2 и I2 [3, 4, 9, 10, 18]. Под действием стимулов клетка переходит от состояния покоя к активной секреции [1–3, 5]. Ацетилхолин, высвобождаемый из холинергических окончаний, связывается с M3-рецепторами на париетальной клетке. Этот рецептор сопряжен с Gq-белком, активирующим фосфолипазу С и запускающим расщепление PIP2 на IP3 и DAG (рис. 2) [1, 3, 18, 19]. IP3 увеличивает уровень Ca2+, а DAG активирует протеинкиназу С, что усиливает секреторную активность [1, 2, 4, 5, 9]. Дополнительно ацетилхолин стимулирует ECL-клетки через M1-рецепторы, вызывая высвобождение гистамина [2, 5, 10]. Гистамин выделяется ECL-клетками и действует локально, связываясь с H2-рецепторами на париетальной клетке [2]. Эти рецепторы сопряжены с Gs-белком, активирующим аденилатциклазу и усиливающим продукцию циклического аденозинмонофосфата – вторичного мессенджера, который запускает каскад через протеинкиназу A [1, 5, 9, 10, 18]. Последняя модулирует цитоскелетные белки, включая эзрин, участвующий в ремоделировании апикальной мембраны при активации секреции [20]. Кроме того, гистамин влияет и опосредованно, взаимодействуя с H3-рецепторами D-клеток [21]. Гастрин синтезируется G-клетками антрального отдела желудка в ответ на стимуляцию компонентами пищи, поступает в париетальные клетки с током крови и активирует CCK-B-рецепторы на их базолатеральной мембране [1, 2, 4, 5, 9]. Он также стимулирует ECL-клетки через те же рецепторы, усиливая выделение гистамина [1, 3, 4, 18, 19]. Сигнальный каскад при активации CCK-B-рецепторов аналогичен пути M3-холинорецепторов с участием Gq-белка, IP3, DAG и внутриклеточного кальция [7, 22]. Таким образом, указанные механизмы, от рецепторов до вторичных мессенджеров, представляют собой важные терапевтические мишени при создании и применении антисекреторных препаратов [2].
Рис. 2. Процессы сигнальной трансдукции в париетальной клетке, задействованные в регуляции ее секреторной активности [2].
Примечание. АЦ – аденилатциклаза, ФЛ-С – фосфолипаза С, цАМФ – циклический аденозинмонофосфат, PIP2 – фосфатидилинозитол-4,5-дифосфат, IP3 – инозитолтрифосфат, DAG – диацилглицерол, ПК-А – протеинкиназа А, ПК-С – протеинкиназа С.
Fig. 2. Signal transduction processes in the parietal cell involved in the regulation of its secretory activity [2].
Калий-конкурентные блокаторы кислотопродукции
Эпоха лечения КЗЗ начитывает несколько этапов, связанных с применением различных групп фармакологических препаратов (табл. 1) [2]. С целью лечения этой группы патологий использовались неселективные и селективные М-холинолитики, блокаторы гистаминовых H2-рецепторов, а также блокаторы гастриновых CCK-2-рецепторов (CCK-В) [2, 3]. Однако введение в клиническую практику в 1980-х годах ИПП привело к революционному прорыву в лечении КЗЗ [6, 23, 24]. ИПП блокируют функциональную активность Н+, К+-АТФазы путем взаимодействия с дисульфидными мостиками этого фермента, что, в свою очередь, приводит к снижению как базальной секреции соляной кислоты, так и стимулированной [1, 2]. Преимущества ИПП над устаревшими классами препаратов – быстрое подавление секреции соляной кислоты, отсутствие синдрома рикошета после окончания применения препарата, а также независимость от других механизмов (ацетилхолин, гистамин и гастрин), стимулирующих желудочную кислотопродукцию [3]. Помимо этого, высокая селективность ИПП в отношении париетальных клеток желудка обусловливает хороший профиль безопасности этого класса препаратов [2, 22–25].
Таблица 1. Эволюция лечения КЗЗ [2]
Table 1. Evolution of treatment for acid-related diseases [2]
Класс препаратов | Появление на фармацевтическом рынке | Эффективность | |
М-холинолитики | неселективные | 1930-е | Низкая |
М1-селективные | 1960-е | Умеренная | |
Антагонисты гистаминовых H2-рецепторов | 1970-е | Высокая | |
Антагонисты гастриновых рецепторов | 1970-е | Умеренная | |
ИПП | 1980-е | Очень высокая | |
К-КБК | 2015 | Очень высокая | |
Однако, несмотря на широкую распространенность и внушительную доказательную базу эффективности, ИПП имеют фармакокинетические и фармакодинамические ограничения, такие как медленное наступление действия, вариабельность ответа и потребность в активации кислой среды [22, 25]. Актуальность таких ограничений обусловила необходимость внедрения новых молекулярных подходов к ингибированию кислотопродукции, что привело к разработке препаратов принципиально иного механизма действия – калий-конкурентных блокаторов кислотопродукции (К-КБК) [26].
К-КБК, или К+-ИПП (англ. potassium-competitive acid blockers, P-CABs), представляют собой инновационный класс антисекреторных препаратов, механизм действия которых основан на обратимом ионном взаимодействии с Н+, К+-АТФазой париетальных клеток желудка [26, 27]. На глобальном фармацевтическом рынке уже внедрены представители этого класса, такие как вонопразан, ревапразан, тегопразан, фексупразан, кеверпразан, демонстрирующие клинические преимущества в ряде терапевтических направлений [22, 27, 28]. В России завершена III фаза клинических исследований нового препарата из группы К-КБК – тегопразана. Это открывает возможности для регистрации тегопразана и последующего включения его в клиническую практику гастроэнтерологов, что позволит значительно улучшить диагностику и оптимизировать лечение пациентов с КЗЗ и станет важной вехой в развитии отечественного здравоохранения и повышении качества помощи больным с патологией желудочно-кишечного тракта.
В отличие от ИПП, кислотоподавляющий эффект которых обусловлен ковалентным необратимым связыванием с протонной помпой париетальных клеток, К-КБК конкурентно обратимо взаимодействуют с ионным К+-связывающим доменом H+, K+-АТФазы (табл. 2) [22, 26, 27]. После связывания К-КБК блокируют доступ ионов K+ к протонному насосу. В отличие от ИПП, К-КБК кислотоустойчивы и, следовательно, не требуют кишечнорастворимой оболочки [29]. Стандартные ИПП представляют собой форму пролекарства, которая требует присоединения протона для трансформации в активную форму. Для осуществления процесса протонирования ИПП должны находиться в париетальных клетках, в которых секреция кислоты должна быть активирована после приема пищи. С учетом времени, требуемого для этого процесса, такие препараты необходимо принимать за 30 мин до приема пищи для оптимального эффекта. К-КБК можно принимать независимо от приема пищи, и пища не влияет на скорость их всасывания [30]. Кроме того, К-КБК не являются пролекарствами и действуют непосредственно на протонный насос. Эти различия в механизме действия К-КБК способствуют более быстрому достижению пиковых концентраций в плазме и началу действия [30]. При этом для К-КБК активация в кислой среде не требуется, что обусловливает более высокую скорость ингибирования секреции соляной кислоты при сравнении с ИПП (рис. 3) [30, 31].
Таблица 2. Сравнительная характеристика К-КБК и ИПП [30]
Table 2. Comparative characteristics of potassium-competitive acid blockers and proton pump inhibitors [30]
Характеристика | ИПП | К-КБК |
Пролекарство | Да | Нет |
Кислотоустойчивость | Нет | Да |
Тип ингибирования и связывания | Необратимое, ковалентное | Обратимое, ионное |
Скорость достижения максимального эффекта | 2–5 сут | 1 сут |
Период полуэлиминации (Т1/2) | 0,5–3 ч | 4–10 ч |
Зависимы от полиморфизма CYP2C19 | Да | Нет |
Ингибирование микросомальных ферментов | Да | Нет |
Оптимальный режим применения | За 30–60 мин до еды | Независимо от приема пищи |
Рис. 3. Динамика ингибирования кислотопродукции К-КБК и ИПП: компьютерное моделирование [22].
Fig. 3. Trend of acid inhibition with potassium-competitive acid blockers and proton pump inhibitors: a computer simulation [22].
Эффективность К-КБК в рамках лечения ряда КЗЗ продемонстрирована в ряде независимых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), систематических обзоров и метаанализов. Метаанализ 9 РКИ показал, что К-КБК эффективнее ИПП в рамках лечения эрозивного эзофагита (ЭЭ) у пациентов с ГЭРБ с отношением шансов 1,09 [95% доверительный интервал (ДИ) 1,04–1,13] через 2 нед и 1,03 (95% ДИ 1,00–1,07) через 8 нед соответственно. Наибольший эффект показан при тяжелом ЭЭ (степень C/D по классификации Лос-Анджелеса). Анализ обсервационных исследований на популяции пациентов с ГЭРБ, резистентных к ИПП, показал снижение частоты симптомов у 86,3% пациентов на фоне применения К-КБК [32]. По данным метаанализа, обобщившего результаты 4 РКИ (n=1834), поддерживающая терапия ЭЭ степени C/D по Лос-Анджелесской классификации с применением тегопразана в дозе 20 мг характеризовалась преимуществом при сравнении с рядом ИПП. На основании SUCRA лечение тегопразаном в суточной дозе 20 мг превосходило применение эзомепразола, 20 мг/сут, лансопразола, 15 мг/сут, и пантопразола, 20 мг/сут, в отношении снижения абсолютного риска терапевтической неудачи (SUCRA 0,49, 0,44, 0,24 и 0,22 соответственно) [33]. Преимущество терапии тегопразаном у пациентов с ЭЭ при сравнении с ИПП также показано по результатам сетевого метаанализа 34 исследований (n=25 054). Так, 4- или 8-недельный показатель заживления эрозий на фоне применения тегопразана в дозе 50 или 100 мг/сут превышал показатель для ИПП в стандартных или удвоенных дозах [34]. Недавнее РКИ продемонстрировало, что применение тегопразана сопровождалось более быстрым облегчением симптомов ГЭРБ в режиме «по требованию» в сравнении с ИПП. Так, облегчение симптомов ГЭРБ в течение 30 мин после приема тегопразана наблюдали в 26,2% случаев, что существенно превышало показатель на фоне применения эзомепразола – 16,1% (p<0,0001). Указанное преимущество тегопразана наблюдали вплоть до 3 ч после приема препаратов. Таким образом, тегопразан способствовал более быстрому облегчению симптомов ГЭРБ в сравнении с ИПП при их использовании «по требованию» [35]. Эффективность К-КБК перед ИПП демонстрируется и в рамках эрадикационной терапии (ЭТ) инфекции Helicobacter pylori. Метаанализ 28 РКИ (n=8818) показал, что терапия на основе К-КБК сопровождалась более высокими показателями эффективности ЭТ, чем 14-дневная квадротерапия на основе висмута трикалия дицитрата (87% против 79,8% соответственно, относительный риск – ОР 1,08, 95% ДИ 1,04–1,12; p<0,0001) или ИПП-содержащих протоколов (85,6% против 77,8% соответственно, ОР 1,09, 95% ДИ 1,05–1,12; p<0,00001). При этом эффективность применения К-КБК в сравнении со схемами ЭТ на основе ИПП особенно выражена у пациентов с инфекцией H. pylori, резистентной к кларитромицину (73,7% против 41,5%, ОР 1,53, 95% ДИ 1,07–2,20; p=0,02) [36]. Эти данные особенно значимы для России, где демонстрируется рост резистентности данной инфекции ко многим антибактериальным препаратам [37–39].
Стоит отметить, что во многом превосходство К-КБК перед ИПП заключается в отсутствии зависимости от генотипически детерминированных вариантов метаболизма молекулы К-КБК [23, 30]. Известно, что клиренс большинства ИПП зависит от полиморфизмов CYP2C19, обусловливающих значительную вариабельность в эффективности этого класса препаратов у ряда субъектов, особенно фенотипов «ультрабыстрых» и «быстрых» метаболизаторов [40–43]. При использовании тегопразана не выявлено влияния фенотипа CYP2C19 на ингибирование К-КБК ночного кислотного прорыва, в отличие от ИПП [44]. В последующем РКИ с участием 16 здоровых добровольцев установлено, что однократный прием тегопразана в дозе 50 мг не оказывал клинически значимого влияния на фармакокинетику субстратов CYP2C19 (атоваквон + прогуанил, 250 мг + 100 мг), в отличие от вонопразана в дозе 20 мг или эзомепразола в дозе 40 мг, которые приводили к снижению опосредованного изоферментом CYP2C19 метаболизма субстратов. Ингибирование CYP2C19 наиболее выражено на фоне однократного приема ИПП в сравнении с приемом вонопразана, при этом тегопразан не был ни ингибитором, ни индуктором CYP2C19 [45]. Эти данные крайне релеванты для понимания профиля безопасности К-КБК с точки зрения минимального риска лекарственных взаимодействий, а также гепатотоксичного потенциала. Последний тезис подтверждается результатами ретроспективного популяционного когортного исследования, оценивавшего гепатотоксичность тегопразана и 6 различных ИПП (n=1 737 176). Так, применение тегопразана не ассоциировано с более высоким риском гепатотоксичности, чем использование ИПП – декслансопразола, эзомепразола, лансопразола, омепразола, пантопразола и рабепразола (ОР 0,73, 95% ДИ 0,72–0,75). Напротив, терапия тегопразаном характеризовалась снижением риска гепатотоксичности на ≈27% при сравнении с ИПП, что можно отнести к преимуществу препарата перед ИПП при лечении КЗЗ [46].
Заключение
Появление в России первого представителя класса К-КБК – тегопразана – откроет новые перспективы к оптимизации ведения пациентов с КЗЗ в гастроэнтерологической практике нашей страны, где распространенность этой группы патологий достаточно высока [47–49]. К-КБК отличает от ИПП быстрое начало действия, стабильное кислотоподавление (независимо от приема пищи) и независимость от полиморфизмов CYP2C19. Клинические преимущества К-КБК перед ИПП продемонстрированы на популяциях пациентов с ГЭРБ (особенно с тяжелыми и рефрактерными к ИПП формами), а также при использовании в рамках ЭТ инфекции H. pylori.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
About the authors
Igor V. Maev
Russian University of Medicine
Email: dna-mit8@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6114-564X
SPIN-code: 1994-0933
акад. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. каф. пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowDmitry N. Andreev
Russian University of Medicine
Author for correspondence.
Email: dna-mit8@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4007-7112
SPIN-code: 2980-3362
канд. мед. наук, доц. каф. пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowAndrey V. Zaborovsky
Russian University of Medicine
Email: dna-mit8@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7923-9916
SPIN-code: 9592-2405
д-р мед. наук, проф., зав. каф. фармакологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowAlexey K. Fomenko
Russian University of Medicine
Email: dna-mit8@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1794-7263
SPIN-code: 2800-1670
преподаватель каф. фармакологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowReferences
- Schubert ML, Kaunitz JD. Gastric Secretion. In.: Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management. 10th ed. 2015.
- Маев И.В., Андреев Д.Н., Заборовский А.В. Фундаментальные основы кислотопродукции в желудке. Медицинский совет. 2018;(3):7-14 [Maev IV, Andreev DN, Zaborovsky AV. Basics Of Gastric Acid Secretion. Meditsinskii Sovet. 2018;(3):7-14 (in Russian)]. doi: 10.21518/2079-701X-2018-3-7-14
- Schubert ML. Physiologic, pathophysiologic, and pharmacologic regulation of gastric acid secretion. Curr Opin Gastroenterol. 2017;33(6):430-8. doi: 10.1097/MOG.0000000000000392
- Маев И.В., Андреев Д.Н., Кучерявый Ю.А., Шабуров Р.И. Современные достижения в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: фокус на эзофагопротекцию. Терапевтический архив. 2019;91(8):4-11 [Maev IV, Andreev DN, Kucheryavyy YuA, Shaburov RI. Current Advances in the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease: A Focus on Esophageal Protection. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2019;91(8):4-11 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2019.08.000387
- Ивашкин В.Т., Лопина О.Д. Клеточные механизмы секреции соляной кислоты и ингибиторы протонного насоса. В кн.: Профилактика и лечение хронических заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Под ред. акад. РАМН В.Т. Ивашкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МЕДпресс-информ, 2013 [Ivashkin VT, Lopina OD. Kletochnye mekhanizmy sekretsii solianoi kisloty i ingibitory protonnogo nasosa. In: Profilaktika i lechenie khronicheskikh zabolevanii verkhnikh otdelov zheludochno-kishechnogo trakta. Pod red. akad. RAMN VT Ivashkina. 2 ed. Moscow: MEDpress-inform, 2013 (in Russian)].
- Feldman M. American Journal of Gastroenterology lecture: Gastric acid secretion: Still relevant? Am J Gastroenterol. 2013;108:347-52. doi: 10.1038/ajg.2012.478
- Spicer Z, Miller ML, Andringa A, et al. Stomachs of mice lacking the gastric H,K-ATPase α-subunit have achlorhydria, abnormal parietal cells, and ciliated metaplasia. J Biol Chem. 2000;275:21555-65. doi: 10.1074/jbc.M001558200
- Исаков В.А. Ингибиторы протонного насоса: их свойства и применение в гастроэнтерологии. М.: Академкнига, 2001 [Isakov VA. Ingibitory protonnogo nasosa: ikh svoistva i primenenie v gastroenterologii. Moscow: Akademkniga, 2001 (in Russian)].
- Schubert ML. Gastric acid secretion. Curr Opin Gastroenterol. 2016;32(6):452-60. doi: 10.1097/MOG.0000000000000308
- Chu S, Schubert ML. Gastric secretion. Curr Opin Gastroenterol. 2012;28(6):587-93. doi: 10.1097/MOG.0b013e328358e5cc
- He W, Liu W, Chew CS, et al. Acid secretion-associated translocation of KCNJ15 in gastric parietal cells. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2011;301(4):G591-600. doi: 10.1152/ajpgi.00460.2010
- Song P, Groos S, Riederer B, et al. Kir4.1 channel expression is essential for parietal cell control of acid secretion. J Biol Chem. 2011;286(16): 14120-8. doi: 10.1074/jbc.M110.151191
- Kopic S, Murek M, Geibel JP. Revisiting the parietal cell. Am J Physiol Cell Physiol. 2010;298:C1-10.
- Kosiek O, Busque SM, Foller M, et al. SLC26A7 Can function as a chlorideloading mechanism in parietal cells. Pflugers Arch Eur J Physiol. 2007;454:989-98. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s00424-007-0254-y. Accessed: 01.07.2025.
- McDaniel N, Pace AJ, Spiegel S, et al. Role of Na-K-2Cl cotransporter-1 in gastric secretion of nonacidic fluid and pepsinogen. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2005;289(3):G550-60. doi: 10.1152/ajpgi.00095.2005
- Rotte A, Pasham V, Mack AF, et al. Ca2+ activated K+ channel Kca3.1 as a determinant of gastric acid secretion. Cell Physiol Biochem. 2011;27(5):597-604. doi: 10.1159/000329981
- Fujii T, Fujita K, Takeguchi N, Sakai H. Function of K+-Cl− cotransporters in the acid secretory mechanism of gastric parietal cells. Biol Pharm Bull. 2011;34(6):810-2. doi: 10.1248/bpb.34.810
- Yao X, Forte JG. Cell biology of acid secretion by the parietal cell. Annu Rev Physiol. 2003;65:103-31. doi: 10.1146/annurev.physiol.65.072302.114200
- Schubert ML, Peura DA. Control of gastric acid secretion in health and disease. Gastroenterology. 2008;134(7):1842-60. doi: 10.1053/j.gastro.2008.05.021
- Zhou R, Cao X, Watson C, et al. Characterization of protein kinase A-mediated phosphorylation of ezrin in gastric parietal cell activation. J Biol Chem. 2003;278(37):35651-9. doi: 10.1074/jbc.M303416200
- Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology. 13 ed. Elsevier, 2016.
- Hunt RH, Scarpignato C. Potent Acid Suppression with PPIs and P-CABs: What's New? Curr Treat Options Gastroenterol. 2018;16(4): 570-90. doi: 10.1007/s11938-018-0206-y
- Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н. Перспективы лечения больных с кислотозависимыми заболеваниями. Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2014;2:15-24 [Kucheryavy YuA, Andreyev DN. Prospects of Acid-Related Diseases Treatment. Klinicheskie Perspektivy Gastroenterologii, Gepatologii. 2014;2:15-24 (in Russian)]. EDN:RXBWVZ
- Андреев Д.Н., Кучерявый Ю.А. Перспективы лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Гастроэнтерология. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2013;2:9-14 [Andreev DN, Kucheriavyi IuA. Perspektivy lecheniia gastroezofagealnoi refliuksnoi bolezni. Gastroenterologiia. Prilozhenie k Zhurnalu Consilium Medicum. 2013;2:9-14 (in Russian)]. EDN: RXDZYR
- Заборовский А.В., Маев И.В., Андреев Д.Н., Тарарина Л.А. Плейотропные эффекты рабепразола и их роль в лечении пациентов с кислотозависимыми заболеваниями. Росcийский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2017;27(3):18-26 [Zaborovsky AV, Mayev IV, Andreyev DN, Tararina LA. Leiotropic Effects of Rabeprazole at Acid-Related Diseases. Rosciiskii Zhurnal Gastroenterologii, Gepatologii, Koloproktologii. 2017;27(3):18-26 (in Russian)]. EDN:WULBSL
- Inatomi N, Matsukawa J, Sakurai Y, Otake K. Potassium-competitive acid blockers: Advanced therapeutic option for acid-related diseases. Pharmacol Ther. 2016;168:12-22. doi: 10.1016/j.pharmthera.2016.08.001
- Otake K, Sakurai Y, Nishida H, et al. Characteristics of the Novel Potassium-Competitive Acid Blocker Vonoprazan Fumarate (TAK-438). Adv Ther. 2016;33(7):1140-57. doi: 10.1007/s12325-016-0345-2
- Scarpignato C, Hunt RH. Potassium-competitive Acid Blockers: Current Clinical Use and Future Developments. Curr Gastroenterol Rep. 2024;26(11):273-93. doi: 10.1007/s11894-024-00939-3
- Wong N, Reddy A, Patel A. Potassium-Competitive Acid Blockers: Present and Potential Utility in the Armamentarium for Acid Peptic Disorders. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2022;18(12):693-700.
- Han S, Choi HY, Kim YH, et al. Comparison of pharmacodynamics between tegoprazan and dexlansoprazole regarding nocturnal acid breakthrough: a randomized crossover study. Gut Liver. 2023;17(1):92-9. doi: 10.5009/gnl220050
- Han S, Choi HY, Kim YH, et al. Randomised clinical trial: safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of single and multiple oral doses of tegoprazan (CJ-12420), a novel potassium-competitive acid blocker, in healthy male subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2019;50(7):751-9. doi: 10.1111/apt.15438
- Seo S, Jung HK, Gyawali CP, et al. Treatment Response With Potassium-competitive Acid Blockers Based on Clinical Phenotypes of Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. J Neurogastroenterol Motil. 2024;30(3):259-71. doi: 10.5056/jnm24024
- Zhuang Q, Chen S, Zhou X, et al. Comparative efficacy of P-CAB vs proton pump inhibitors for grade C/D esophagitis: a systematic review and network meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2024;119(5):803-13. doi: 10.14309/ajg.0000000000002714
- Liu Y, Gao Z, Hou X. Potassium-competitive acid blockers and proton-pump inhibitors for healing of erosive esophagitis: a systematic review and network meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol. 2024;17:17562848241251567. doi: 10.1177/17562848241251567
- Kang SH, Moon HS, Sung JK, et al. Assessment of the efficacy of on-demand tegoprazan therapy in gastroesophageal reflux disease through a randomized controlled trial. Sci Rep. 2025;15(1):168. doi: 10.1038/s41598-024-84065-0
- Jin T, Wu W, Zhang L, et al. The efficacy and safety of Vonoprazan and Tegoprazan in Helicobacter pylori eradication: a comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Therap Adv Gastroenterol. 2025;18:17562848251314801. doi: 10.1177/17562848251314801
- Андреев Д.Н., Маев И.В., Кучерявый Ю.А. Резистентность Helicobacter pylori в Российской Федерации: метаанализ исследований за последние 10 лет. Терапевтический архив. 2020;92(11): 24-30 [Andreev DN, Maev IV, Kucheryavyy YuA. Helicobacter Pylori Resistance in the Russian Federation: A Meta-Analysis of Studies over the Past 10 years. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2020;92(11):24-30 (in Russian)]. DOI:10.26442/ 00403660.2020.11.000795
- Маев И.В., Андреев Д.Н., Фоменко А.К., и др. Динамика антибиотикорезистентности инфекции Helicobacter pylori в Москве. Терапевтический архив. 2025;97(2):163-6 [Maev IV, Andreev DN, Fomenko AK, et al. Trends of Antibiotic Resistance of Helicobacter Pylori in Moscow. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2020;92(11): 24-30 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2025.02.203193
- Andreev DN, Khurmatullina AR, Maev IV, et al. Helicobacter pylori Antibiotic Resistance in Russia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics (Basel). 2025;14(5):524. doi: 10.3390/antibiotics14050524
- Maev IV, Andreev DN, Kucheryavyi YA, Dicheva DT. Host factors influencing the eradication rate of Helicobacter pylori. World Applied Sciences Journal. 2014;30(30):134-40. doi: 10.5829/idosi.wasj.2014.30.mett.61
- Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н., Баркалова Е.В. Эрадикационная терапия инфекции Helicobacter pylori: обзор мировых тенденций. Терапевтический архив. 2014;3:94-9 [Maev IV, Kucheriavyi IuA, Andreev DN, Barkalova EV. Eradication Therapy for Helicobacter Pylori Infection: Review of World Trends. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2014;3:94-9 (in Russian)]. EDN:SDZJTP
- Маев И.В., Андреев Д.Н. Молекулярно-генетические предикторы резистентности к антихеликобактерной терапии. Терапевтический архив. 2017;89(8):5-12 [Maev IV, Andreev DN. Molecular Genetic Predictors of Resistance to Anti-Helicobacter Pylori Therapy. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2017;89(8):5-12 (in Russian)]. doi: 10.17116/terarkh20178985-12
- Маев И.В., Баркалова Е.В., Овсепян М.А., и др. Возможности рН-импедансометрии и манометрии высокого разрешения при ведении пациентов с рефрактерной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Терапевтический архив. 2017;89(2):76-83 [Maev IV, Barkalova EV, Ovsepyan MA, et al. Possibilities of pH Impedance And High-Resolution Manometry in Managing Patients With Refractory Gastroesophageal Reflux Disease. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2017;89(2):76-83 (in Russian)]. doi: 10.17116/terarkh201789276-83
- Yang E, Kim S, Kim B, et al. Night-time gastric acid suppression by tegoprazan compared to vonoprazan or esomeprazole. Br J Clin Pharmacol. 2022;88(7):3288-96.
- Yang E, Ji SC, Jang IJ, Lee S. Evaluation of CYP2C19-mediated pharmacokinetic drug interaction of tegoprazan, compared with vonoprazan or esomeprazole. Clin Pharmacokinet. 2023;62(4):599-608. doi: 10.1007/s40262-023-01228-4
- Kim MG, Im YJ, Lee JH, et al. Comparison of hepatotoxicity of tegoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, with proton pump inhibitors using real-world data: A nationwide cohort study. Front Med (Lausanne). 2022;9:1076356. doi: 10.3389/fmed.2022.1076356
- Андреев Д.Н., Маев И.В., Бордин Д.С., и др. Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в России: метаанализ популяционных исследований. Терапевтический архив. 2024;96(8):751-6 [Andreev DN, Maev IV, Bordin DS. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in Russia: a meta-analysis of population-based studies. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2024;96(8):751-6 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2024.08.202807
- Андреев Д.Н., Хурматуллина А.Р., Бордин Д.С., Маев И.В. Динамика распространенности инфекции Helicobacter pylori у взрослого населения Москвы: систематический обзор и метаанализ. Терапевтический архив. 2025;97(5):463-70 [Andreev DN, Khurmatullina AR, Bordin DS, Maev IV. Dinamika rasprostranennosti infektsii Helicobacter pylori u vzroslogo naseleniia Moskvy: sistematicheskii obzor i metaanaliz. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2025;97(5):463-70 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2025.05.203250
- Bordin D, Morozov S, Plavnik R, et al. Helicobacter pylori infection prevalence in ambulatory settings in 2017-2019 in RUSSIA: The data of real-world national multicenter trial. Helicobacter. 2022;27(5):e12924. doi: 10.1111/hel.12924
Supplementary files