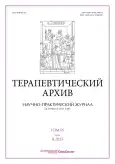Impact of atrial functional mitral regurgitation on clinical outcomes in patients with HFpEF and atrial fibrillation during optimal drug therapy
- Authors: Safarova A.F.1, Kobalava Z.D.1, Adam S.B.1, Timofeeva T.M.1
-
Affiliations:
- Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia
- Issue: Vol 97, No 8 (2025): Treatment issues
- Pages: 618-626
- Section: Original articles
- Submitted: 15.02.2025
- Accepted: 02.06.2025
- Published: 28.08.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/656029
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.08.203337
- ID: 656029
Cite item
Full Text
Abstract
Aim. To evaluate the clinical and prognostic significance of atrial functional mitral regurgitation (AFMR) in patients with heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) and atrial fibrillation (AF) on the background of optimal drug therapy.
Materials and methods. The retrospective study included 150 patients (age 75.5 ± 9.9 years, 54% men) with HFpEF with AF and AFMR on the background of optimal drug therapy. Clinical and demographic characteristics (including the scale of assessment of the clinical condition), laboratory and instrumental diagnostic results, and drug therapy were evaluated. MR was assessed as minor, moderate, or severe using a multiparametric approach, including an assessment of the effective area of the regurgitation hole and the MR fraction. The effect of AFMR on rehospitalization for HF, combined endpoint (CE) was studied [cardiovascular death (CVD) and rehospitalization] during the follow-up period of 589 (217–1039) days.
Results. Eighty (53.3%) patients had moderate AFMR, and 23 (15.3%) had severe AFMR. These patients had lower SBP and DBP values (p = 0.014), and permanent AF was more common among them (p = 0.025) compared with patients with minor MR. Independent predictors of moderate/severe AFMR were the constant form of AF (OR 3.3 [1.4–8.0]; p = 0.007), end-systolic left ventricular distance (OR 3.0 [1.4–6.5]; p = 0.006), taking antiplatelet agents (OR 0.11 [0.02–0.70]; p = 0.020). The frequency of outcomes in the general group was 46.7% for CE, 34.0% for rehospitalization for HF, and 14.0% for CVD. The predictors of CE were moderate/severe FMR (HR 2.6 [1.4–4.9]; p = 0.002), scores on the scale of assessment of the clinical condition (HR 1.14 [1.04–1.25]; p = 0.003); severe FMR (HR 4.1 [1.7–10.2]; p = 0.002), moderate FMR (HR 2.7 [1.2–5.8]; p = 0.013), creatinine level (HR 0.990 [0.980–1,000]; p = 0.040).
Conclusion. Despite the limitations, the importance of AFMR as a factor influencing clinical outcomes in patients with HFpEF and AF has been demonstrated. The present study highlights the need for further investigation of this condition and the development of personalized patient management strategies.
Full Text
Список сокращений
ДАД – диастолическое артериальное давление
ДИ – доверительный интервал
ККТ – комбинированная конечная точка
ЛЖ – левый желудочек
ЛП – левое предсердие
МК – митральный клапан
МР – митральная регургитация
ОР – отношение рисков
ОШ – отношение шансов
ПФМР – предсердная функциональная митральная регургитация
САД – систолическое артериальное давление
СН – сердечная недостаточность
СНсФВ – сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса
ССС – сердечно-сосудистая смерть
ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка
ФК – функциональный класс
ФМР – функциональная митральная регургитация
ФП – фибрилляция предсердий
ШОКС – шкала оценки клинического состояния
Введение
Функциональная митральная регургитация (ФМР) традиционно рассматривается в контексте систолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и ассоциируется с неблагоприятным прогнозом [1, 2]. Однако в последние годы все большее внимание уделяется предсердной форме ФМР, возникающей у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) даже при сохраненной систолической функции ЛЖ. В таких случаях митральная регургитация (МР) развивается вследствие дилатации левого предсердия (ЛП) и получила название предсердной ФМР (ПФМР) [3–5].
ФП и сердечная недостаточность (СН) с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) представляют собой две взаимосвязанные эпидемии XXI в. Несмотря на это, современные клинические рекомендации не содержат четких указаний на необходимость дифференциации ПФМР от вторичной желудочковой ФМР. В то же время ПФМР, развивающаяся на фоне миопатии ЛП, может являться ключевым звеном в патогенезе СН у пациентов с ФП и сохраненной фракцией выброса (ФВ) [6].
В последние годы патологическое значение ПФМР при СН привлекает все больше внимания. Однако данных о клинических характеристиках этого состояния, его прогностической значимости и влиянии на течение СНсФВ остается недостаточно.
Цель исследования – оценить клинико-прогностическое значение ПФМР у пациентов с СНсФВ и ФП на фоне оптимальной медикаментозной терапии.
Материалы и методы
В ретроспективное исследование последовательно включены пациенты с СНсФВ с ФП и ПФМР на фоне оптимальной медикаментозной терапии из базы данных Центра сердечной недостаточности Университетской клиники РУДН (ранее – ГКБ им. В.В. Виноградова), госпитализированные в кардиологическое и терапевтическое отделения с декомпенсацией хронической СН с 2020 по 2023 г. Диагноз СНсФВ устанавливали в соответствии с клиническими рекомендациями [7]. Для характеристики ПФМР при выписке в контексте СНсФВ и ФП использовали следующие параметры:
- сохраненная ФВ ЛЖ;
- дилатация обоих предсердий;
- отсутствие органических заболеваний митрального клапана (МК) [6].
Пациенты с органическими и дегенеративными изменениями МК, анамнезом инфаркта миокарда и региональным нарушением сократимости ЛЖ, верифицированным диагнозом кардиомиопатии, с имплантацией внутрисердечного устройства и операцией на сердце исключены.
Дизайн исследования представлен на рис. 1.
Рис. 1. Дизайн исследования.
Примечание. СНнФВ – СН со сниженной ФВ ЛЖ; СНунФВ – СН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ.
Fig. 1. Research design.
Оценивались следующие показатели из базы данных: клинико-демографическая характеристика пациентов (в том числе определение функционального класса – ФК СН по сумме баллов согласно шкале оценки клинического состояния пациента – ШОКС в индексную госпитализацию), результаты лабораторной и инструментальной диагностики, медикаментозная терапия.
Комплексная трансторакальная эхокардиография выполнена в соответствии с современными рекомендациями на аппарате экспертного класса VIVID E90 (GE Healthcare). Систолическая функция ЛЖ оценивалась по методу Симпсона полуавтоматическим методом. Объем ЛП определялся методом двухплоскостных дисков и индексировался по площади поверхности тела. МР оценивалась как незначительная, умеренная или тяжелая с использованием многопараметрического подхода, включая оценку эффективной площади отверстия регургитации с использованием метода проксимальной изоскоростной площади поверхности, объема и фракции МР [8]. Для статистического анализа в настоящем исследовании градация МР оценена следующим образом: незначительная – 1, умеренная – 2 и тяжелая – 3.
В исследование согласно критериям включения и исключения вошли 150 пациентов. Клинико-демографическая, эхокардиографическая и характеристики терапии при выписке представлены в табл. 1–3.
Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. Clinical and demographic characteristics of the patients included in the study
Показатели | Значения |
Возраст, лет, M ± SD | 75,5 ± 9,9 |
Мужчины, абс. (%) | 81 (54,0) |
ИМТ, кг/м2, M ± SD | 34,8 ± 7,4 |
Курение, абс. (%) | 26 (17,4) |
САД, мм рт. ст., Me (IQR) | 130 (119; 147) |
ДАД, мм рт. ст. , Me (IQR) | 69 (63; 80) |
Баллы ШОКС | 7 ± 3 |
ШОКС, абс. (%) ФК I/ФК II/ФК III/ФК IV | 11 (7,3)/49 (32,7)/ 58 (38,7)/30 (20,0) |
ГБ, абс. (%) | 139 (92,6) |
СД 2-го типа, абс. (%) | 53 (35,3) |
Впервые выявленная ФП, абс. (%) | 22 (14,7) |
Пароксизмальная ФП, абс. (%) | 32 (21,3) |
Персистирующая ФП, абс. (%) | 5 (3,3) |
Постоянная ФП, абс. (%) | 91 (60,7) |
Анемия, абс. (%) | 38 (25,9) |
ХБП, абс. (%) | 77 (51,3) |
Креатинин, мкмоль/л, Me (IQR) | 99 (84; 121) |
СКФ, CKD-EPI, мл/мин/1,73 м3, M ± SD | 56,2 ± 19,1 |
NT-proBNP, пг/мл, Me (IQR) | 1194 (450; 2270) |
Примечание. Здесь и далее в табл. 4, 8: ИМТ – индекс массы тела, ГБ – гипертоническая болезнь, СД – сахарный диабет, ХБП – хроническая болезнь почек, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, NT-proBNP – мозговой натрийуретический гормон.
Таблица 2. Эхокардиографическая характеристика пациентов (n = 150)
Table 2. Echocardiographic characteristics of patients (n = 150)
Показатели | Значение |
ФВ ЛЖ, %, Me (IQR) | 55 (52; 57) |
ТМЖП, см, Me (IQR) | 1,3 (1,2; 1,5) |
ТЗСЛЖ, см, Me (IQR) | 1,1 (1,0; 1,3) |
КДР ЛЖ, см, Me (IQR) | 4,7 (4,3; 5,1) |
КСР ЛЖ, см, M ± SD | 3,1 ± 0,6 |
ИММ ЛЖ, г/м2, M ± SD | 118,2 ± 33,2 |
ОТС ЛЖ, M ± SD | 0,5 ± 0,1 |
СДЛА, мм рт. ст., M ± SD | 54 ± 20 |
ПЗР ЛП, см, Me (IQR) | 4,6 (4,3; 4,9) |
ИОЛП, мл/м2, Me (IQR) | 41 (36; 53) |
ПП, поперечный размер, см, Me (IQR) | 4,6 (4,1; 5,2) |
ПП, продольный размер, см, Me (IQR) | 5,8 (5,3; 6,4) |
Примечание. Здесь и далее в табл. 5–7: ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер ЛЖ, КСР ЛЖ – конечно-систолический размер ЛЖ, ИММЛЖ – индексированная масса миокарда ЛЖ, ОТС ЛЖ – относительная толщина стенки ЛЖ, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ПЗР ЛП – переднезадний размер ЛП, ИОЛП – индексированный объем ЛП, ПП – правое предсердие.
Таблица 3. Характеристика терапии при выписке (n = 150)
Table 3. Characteristics of therapy at discharge (n = 150)
Группа препаратов | В стационаре, абс. (%) |
β-АБ | 125 (83,3) |
иАПФ/БРА | 71 (47,3)/49 (32,7) |
АРНИ | 17 (11,3) |
АМКР | 94 (62,7) |
Петлевые диуретики | 144 (96,0) |
Тиазидные диуретики | 12 (8,0) |
Дигоксин, внутрь | 25 (17,0) |
Спиронолактон/эплеренон | 94 (63,0) |
Антиагреганты | 11 (7,3) |
Антикоагулянты | 144 (96,0) |
Статины | 85 (56,7) |
Примечание. β-АБ – β-адреноблокаторы, иАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, БРА – блокаторы рецепторов ангиотензина, АРНИ – ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, АМКР – антагонисты минералокортикоидных рецепторов.
Основными оцениваемыми исходами являлись регоспитализация по поводу СН и комбинированная конечная точка (ККТ), которая включала регоспитализацию по поводу СН и сердечно-сосудистую смертность (ССС). Данные получены в Единой медицинской информационно-аналитической системе, а также по данным телефонных контактов за период наблюдения, медиана которого составила 589 дней.
Статистический анализ
Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение SPSS (версия 27.0). Количественные переменные описывали как среднее арифметическое значение (М) и стандартное отклонение среднего значения – SD (при нормальном распределении) или как медиану (Me) и интерквартильный размах – IQR (при асимметричном распределении). Проверка распределений выполнялась с использованием критерия Колмогорова–Смирнова. Качественные переменные описывали абсолютными (абс.) и относительными (%) значениями.
Достоверность различий между группами по количественным переменным оценивали при помощи U-критерия Манна–Уитни (при нормальном распределении) или t-критерия Стьюдента (при асимметричном распределении); по качественным переменным – при помощи критериев хи-квадрат Пирсона (χ2)/точного критерия Фишера в зависимости от минимального предполагаемого числа. Значимым считали р < 0,05.
Направление и силу корреляции между показателями рассчитывали с помощью коэффициента корреляции Спирмена (непараметрический корреляционный анализ).
Прогнозирование вероятности выживания определяли методом построения кривых выживаемости Каплана–Мейера, сравнение производили с помощью лог-рангового критерия. Влияние изучаемых параметров на риск развития конечных точек оценивали при одно- и многофакторном регрессионном анализе Кокса с определением отношения рисков (ОР). Зависимость бинарного показателя от количественных или категориальных показателей выявлялась по данным одно- и многофакторной бинарной логистической регрессии с определением отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ).
Результаты
Из 150 пациентов с СНсФВ и ФП у 47 (31,3%) регистрировалась незначительная, у 80 (53,3%) – умеренная, у 23 (15,3%) – тяжелая ПФМР. Пациенты с умеренной/тяжелой ПФМР имели более низкие значения систолического и диастолического артериального давления (САД, ДАД), большую частоту постоянной формы ФП (табл. 4, 5).
Таблица 4. Сравнительная клинико-демографическая характеристика пациентов в зависимости от тяжести МР
Table 4. Comparative clinical and demographic characteristics of patients depending on the severity of mitral regurgitation
Показатель | ПФМР | р | ||
незначительная (n = 47) | умеренная (n = 80) | тяжелая (n = 23) | ||
Возраст, лет, M ± SD | 76,3 ± 11 | 75,8 ± 9,3 | 72,4 ± 9,8 | 0,482 |
Мужчины, абс. (%) | 30 (63,8) | 42 (52,5) | 9 (39,1) | 0,139 |
ИМТ, кг/м2, M ± SD | 34,8 ± 7,6 | 34,3 ± 7,5 | 33,0 ± 6,9 | 0,674 |
САД, мм рт. ст., Me (IQR) | 134 (122; 147) | 131 (122; 150) | 119 (106; 136) | 0,014* рт-н = 0,018 рт-у = 0,021 |
ДАД, мм рт. ст., Me (IQR) | 70 (65; 79) | 70 (63; 83) | 63 (56;72) | 0,014* рт-н = 0,025 рт-у = 0,016 |
Курение, абс. (%) | 6 (12,8) | 12 (15,2) | 8 (34,8) | 0,055 |
Баллы ШОКС, абс. (%) | 7 ± 3 | 7 ± 2 | 8 ± 3 | 0,671 |
ГБ, абс. (%) | 45 (95,7) | 72 (91,1) | 22 (95,7) | 0,538 |
СД, абс. (%) | 16 (34,0) | 30 (37,5) | 7 (30,4) | 0,802 |
Анемия, абс. (%) | 10 (21,3) | 22 (28,6) | 6 (26,1) | 0,667 |
ХБП, абс. (%) | 25 (53,2) | 43 (53,8) | 9 (39,1) | 0,444 |
ФП, абс. (%) | 0,025* | |||
впервые выявленная | 7 (31,8) | 11 (50,0) | 4 (18,2) | p = 0,065 |
пароксизмальная | 18 (56,3) | 12 (37,5) | 2 (6,3) | рн-у = 0,009* |
персистирующая | 2 (40,0) | 3 (60,0) | 0 | рн-у = 0,061* |
постоянная | 20 (22,0) | 54 (59,3) | 17 (18,7) | рн-у = 0,018* |
NT-proBNP, пг/мл, Me (IQR) | 1248 (345; 2771) | 1223 (444; 2276) | 833 (500; 1957) | 0,739 |
Креатинин, мкмоль/л, Me (IQR) | 98 (81; 117) | 99 (80; 124) | 102 (90; 118) | 0,806 |
CКФ CKD-EPI, мл/мин/1,73 м3, M ± SD | 55,9 ± 21,8 | 56,2 ± 18,5 | 56,8 ± 15,4 | 0,913 |
Глюкоза, ммоль/л, Me (IQR) | 5,9 (5,2; 6,9) | 6,2 (5,5; 7,4) | 6,4 (5,3; 9,9) | 0,376 |
Примечание. рн-у – сравнение пациентов с незначительной и умеренной регургитацией, рн-т – сравнение пациентов с незначительной и тяжелой регургитацией; *здесь и далее в табл. 5: различия статистически значимы (р < 0,050).
Таблица 5. Сравнительная характеристика эхокардиографических параметров в зависимости от тяжести МР
Table 5. Comparative characteristics of echocardiographic parameters depending on the severity of mitral regurgitation
Показатель | ПФМР | р | ||
незначительная (n = 47) | умеренная (n = 80) | тяжелая (n = 23) | ||
ФВ ЛЖ, %, Me (IQR) | 55 (54; 60) | 55 (51; 58) | 55 (51; 55) | 0,191 |
КДР ЛЖ, см, Me (IQR) | 4,6 (4,3; 4,9) | 4,9 (4,5; 5,4) | 4,8 (4,4; 5,0) | 0,254 |
КСР ЛЖ, см, Me (IQR) | 2,8 (2,6; 3,3) | 3,2 (2,9; 3,7) | 3,1 (2,8; 3,5) | 0,038* рн-у = 0,011* |
ИММ ЛЖ, г/м2, Me (IQR) | 109 (98; 137) | 119 (100; 147) | 111 (95; 124) | 0,377 |
ОТС ЛЖ, Me (IQR) | 0,39 (0,36; 0,49) | 0,44 (0,40; 0,55) | 0,48 (0,43; 0,57) | 0,944 |
ИОЛП мл/м2, Me (IQR) | 36,1 (33,0; 42,0) | 40,8 (36,0; 53,0) | 42 (38,5; 49,0) | 0,489 |
СДЛА, мм рт. ст., Me (IQR) | 34 (31; 51) | 51 (38; 62) | 52 (45; 57) | 0,386 |
ПП, поперечный размер, см | 4,0 (3,9; 4,5) | 4,6 (4,1; 4,8) | 4,6 (4,3; 4,5) | 0,522 |
ПП, продольный размер, см | 5,4 (5,2; 5,7) | 6,0 (5,3; 6,5) | 5,6 (5,5; 6,9) | 0,573 |
ПЗР ЛП, см, Me (IQR) | 4,2 (4,0; 4,7) | 4,6 (4,2; 5,1) | 4,8 (4,4; 5,0) | 0,227 |
Для выявления ассоциации тяжести ПФМР выполнен корреляционный анализ (табл. 6).
Таблица 6. Взаимосвязь тяжести ПФМР с изучаемыми параметрами
Table 6. Relationship between atrial functional mitral regurgitation severity with the studied parameters
ПФМР | Параметр | R | p |
Умеренная/тяжелая | Постоянная форма ФП | 0,250 | 0,002 |
КСР ЛЖ | 0,233 | 0,009 | |
ПЗР ЛП | 0,181 | 0,028 | |
Прием антиагрегантов | -0,196 | 0,016 | |
Прием АРНИ | 0,196 | 0,017 |
Результаты однофакторного и многофакторного бинарного логистического анализа в отношении умеренной/тяжелой ПФМР представлены в табл. 7.
Таблица 7. Изменения рисков умеренной/тяжелой ПФМР у исследуемых пациентов в зависимости от влияния отдельных факторов
Table 7. Changes in the risks of moderate/severe atrial functional mitral regurgitation in the studied patients, depending on the influence of individual factors
Предиктор | Однофакторный анализ | Многофакторный анализ | ||||
ОШ | 95% ДИ | р | OШ | 95% ДИ | р | |
Постоянная форма ФП | 3,0 | 1,5–6,1 | 0,003 | 3,3 | 1,4–8,0 | 0,007 |
КСР ЛЖ | 2,5 | 1,2–5,1 | 0,011 | 3,0 | 1,4–6,5 | 0,006 |
Прием антиагрегантов | 0,23 | 0,06–0,83 | 0,025 | 0,11 | 0,02–0,70 | 0,020 |
В течение периода наблюдения (Me 589 дней; IQR 217; 1039 дней) после выписки у 46,7% пациентов зарегистрирована ККТ, у 34% – регоспитализации по поводу СН и у 14% – смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Корреляционный анализ для выявления предикторов изучаемых конечных точек представлен в табл. 8.
Таблица 8. Корреляционные связи исходов с клиническими параметрами
Table 8. Correlations of outcomes with clinical parameters
Исход | Показатель | R | р |
ССС | ХБП | 0,201 | 0,014 |
СКФ | –0,253 | 0,002 | |
Креатинин | 0,219 | 0,007 | |
Курение | 0,182 | 0,026 | |
ФК IV (ШОКС) | 0,231 | 0,005 | |
Регоспитализация по поводу СН | Креатинин | –0,186 | 0,023 |
ПФМР | 0,258 | 0,001 | |
Тяжелая ПФМР | 0,163 | 0,046 | |
ФП | 0,170 | 0,037 | |
Постоянная форма ФП | 0,175 | 0,033 | |
ККТ | ПФМР | 0,286 | < 0,001 |
Курение | 0,176 | 0,032 | |
ШОКС | 0,186 | 0,023 | |
ФК II (ШОКС) | –0,167 | 0,041 |
Результаты однофакторного и многофакторного регрессионного анализа Кокса в отношении изучаемых исходов представлены в табл. 9, 10.
Таблица 9. Изменения рисков повторной госпитализации по причине СН у исследуемых пациентов в зависимости от влияния отдельных факторов
Table 9. Changes in the risks of re-hospitalization of heart failure in the studied patients, depending on the influence of individual factors
Предиктор | Однофакторный анализ | Многофакторный анализ* | ||
ОР (95% ДИ) | p | ОР (95% ДИ) | p | |
Тяжелая ПФМР | 2,1 (1,1–4,0) | 0,025 | 4,1 (1,7–10,2) | 0,002 |
Постоянная форма ФП | 2,0 (1,1–3,7) | 0,029 | ||
Умеренная ПФМР | 2,7 (1,2–5,8) | 0,013 | ||
*Здесь и далее в табл. 10: в многофакторный анализ включены статистически значимые корреляции.
Таблица 10. Изменения рисков ККТ у исследуемых пациентов в зависимости от влияния отдельных факторов
Table 10. Changes in combined endpoint risks in the studied patients depending on the influence of individual factors
Предиктор | Однофакторный анализ | Многофакторный анализ* | ||
ОР (95% ДИ) | p | ОР (95% ДИ) | p | |
ПФМР | 1,9 (1,4–2,7) | < 0,001 | ||
Умеренная/тяжелая ПФМР | 2,8 (1,5–5,3) | 0,001 | 2,6 (1,4–4,9) | 0,002 |
Курение | 1,8 (1,1–3,2) | 0,030 | ||
ШОКС | 1,14 (1,04–1,24) | 0,003 | 1,14 (1,04–1,25) | 0,003 |
ФК II (ШОКС) | 0,55 (0,32–0,95) | 0,033 | ||
Зависимость риска развития повторной госпитализации по поводу СН от тяжести ПФМР, оцененная с помощью Log-Rank критерия Мантеля–Кокса, оказалась статистически значимой (p = 0,004). Проведенный с помощью метода Каплана–Мейера анализ показал, что среднее время повторной госпитализации по поводу СН у пациентов с тяжелой ПФМР являлось минимальным и составило 627 ± 95 дней (95% ДИ 441–812), у пациентов с умеренной и незначительной ПФМР безрецидивный период оказался значимо длиннее и составил соответственно 949 ± 67 (95% ДИ 817–1080) и 1224 ± 62 дня (95% ДИ 1102–1345). Бессобытийная выживаемость в зависимости от тяжести МР показана на кривых Каплана–Мейера (рис. 2).
Рис. 2. Кривые Каплана–Мейера, характеризующие бессобытийную (без регоспитализации по поводу СН) выживаемость в зависимости от тяжести ФМР.
Fig. 2. Kaplan–Mayer curves characterizing event-free (without rehospitalization for heart failure) survival depending on the severity of functional mitral regurgitation.
Зависимость риска развития ККТ от тяжести ПФМР оказалась статистически значимой (Log-Rank 13,75; p = 0,001). Проведенный с помощью метода Каплана–Мейера анализ показал, что среднее время наступления ККТ у пациентов с тяжелой и умеренной ФМР составило 503 ± 88 (95% ДИ 330–677) и 773 ± 67 дней (95% ДИ 642–904) соответственно, у пациентов с незначительной ФМР бессобытийный период оказался значимо длиннее и составил 1124 ± 73 дня (95% ДИ 981–1266); рис. 3.
Рис. 3. Кривые Каплана–Мейера, характеризующие бессобытийную (без ККТ) выживаемость в зависимости от тяжести ФМР.
Fig. 3. Kaplan–Mayer curves characterizing event-free (without a combined endpoint) survival depending on the severity of functional mitral regurgitation.
Обсуждение
В ретроспективном исследовании проанализирована клинико-прогностическая значимость ПФМР у пациентов с СНсФВ и ФП на фоне медикаментозной терапии. Полученные результаты свидетельствуют, что ПФМР является важным патофизиологическим механизмом, влияющим на течение СНсФВ и неблагоприятные исходы. Согласно нашим данным умеренная и тяжелая ПФМР встречалась у 53,3 и 15,3% пациентов соответственно.
Распространенность МР у пациентов с СНсФВ оценивалась в недавних исследованиях и регистрах. Так, Z. Balogh и соавт. в ретроспективном одноцентровом анализе обнаружили высокую распространенность более чем умеренной МР (36,3%) у 270 пациентов с СНсФВ [9]. В исследовании TOPCAT тяжесть МР оценена у 935 пациентов, и среди них более чем умеренная МР присутствовала у 71 (12%) пациента [10]. Р. Bartko и соавт. в обсервационном когортном исследовании наблюдали 61% случаев умеренной МР, тогда как в когорте из 7362 пациентов с СНсФВ выявлено только 4,5% случаев тяжелой МР [11].
В ретроспективном анализе 280 последовательных пациентов с СНсФВ, направленных в лабораторию катетеризации клиники Мейо, у 42% (n = 117) пациентов выявлена МР от незначительной до умеренной. Важно подчеркнуть, что миопатия ЛП в этой группе пациентов оказалась более выражена по сравнению с пациентами с отсутствием МР [12].
Хотя представленные данные нельзя полностью отнести к ПФМР, разумно предположить, что МР, описанная в этих исследованиях, может иметь функциональные особенности. В совокупности эти данные указывают на значительную распространенность МР у пациентов с диагнозом СНсФВ, что подчеркивает общие патологические механизмы этих состояний. Определение фактической частоты ФМР является сложной задачей из-за различий в отборе пациентов, методологиях, классификации тяжести МР и отсутствия продольных данных [13].
В нашем исследовании пациенты с более выраженной ПФМР имели более низкие значения САД и ДАД, а также чаще страдали постоянной формой ФП. Это согласуется с гипотезой, что прогрессирующая дилатация ЛП и его фиброзные изменения приводят к утяжелению регургитации, снижая компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы [14].
Наличие ПФМР при СНсФВ служит дополнительным индикатором развития миопатии ЛП, что в свою очередь приводит к нарушению гемодинамики [12]. В ряде исследований показано, что только у 1/2 пациентов с ПФМР в анамнезе имелась ФП [15, 16]. Функциональная МР у пациентов с СНсФВ отражает миопатию ЛП даже при отсутствии ФП и связана с большей гемодинамической тяжестью заболевания и худшим функциональным потенциалом [12].
По данным М. Tamargo и соавт., ПФМР независимо от степени тяжести связана с худшими результатами. В исследовании авторами показано, что терапия, направленная на лечение ФМР при СНсФВ, снижает степень миопатии ЛП и улучшает клинические исходы. В то же время не получены данные, определяющие причинно-следственную связь между ПФМР, миопатией ЛП и СНсФВ. Высказано предположение, что существует двунаправленная связь между ПФМР и миопатией ЛП [12]. Для решения этих вопросов необходимы дальнейшие проспективные исследования. Аналогично K. Kajimoto и соавт. показано, что даже незначительная ФМР связана с повышенным риском неблагоприятных исходов у пациентов с СНсФВ [17].
Результаты нашего исследования подчеркивают важность раннего выявления ПФМР у пациентов с СНсФВ и ФП. Перспективными представляются разработка алгоритмов диагностики и стратификации риска у пациентов с ПФМР и СНсФВ, оценка влияния катетерной аблации ФП на выраженность ФМР и прогноз, а также изучение эффективности интервенционных методов коррекции ПФМР (например, транскатетерная пластика МК) у данной категории пациентов.
Ограничения исследования
Исследование имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при интерпретации полученных результатов. Ретроспективный анализ ограничивает возможность выявления причинно-следственных связей между ПФМР и клиническими исходами. Несмотря на применение многофакторного анализа, остается вероятность наличия неконтролируемых факторов, которые могли повлиять на результаты.
Исследование проводилось на базе данных одного медицинского центра, что может ограничивать его обобщаемость. Полученные данные могут не в полной мере отражать клиническую картину в других популяциях пациентов с СНсФВ и ФП, особенно в условиях различий в тактике ведения пациентов в разных медицинских учреждениях.
Исследование не предусматривало последовательную эхокардиографическую оценку пациентов в динамике, что ограничивает возможность анализа прогрессирования ФМР и его влияния на течение заболевания. Долгосрочные изменения структуры и функции предсердий, а также их связь с тяжестью ФМР остаются неизученными.
Хотя все пациенты получали медикаментозную терапию в соответствии с актуальными рекомендациями, возможны индивидуальные различия в дозировках и приверженности лечению, которые могли повлиять на исходы. Кроме того, не оценивалось влияние интервенционных методов лечения (например, катетерной аблации ФП или коррекции МР) на долгосрочный прогноз.
В исследовании не анализировались некоторые потенциально значимые факторы, такие как степень фиброза миокарда ЛП (по данным магнитно-резонансной томографии с контрастированием), биомаркеры ремоделирования сердца и воспаления, которые могли бы дополнительно пояснить механизмы ПФМР и ее влияние на течение СНсФВ.
Несмотря на четкие критерии включения и исключения, пациенты с СНсФВ и ФП представляют собой неоднородную популяцию с разными фенотипами заболевания. Это могло повлиять на вариабельность исходов и ограничить возможность экстраполяции результатов на более широкую группу пациентов.
Заключение
Несмотря на указанные ограничения, наше исследование демонстрирует важность ПФМР как фактора, влияющего на клинические исходы у пациентов с СНсФВ и ФП. Оно подчеркивает необходимость дальнейшего изучения этого состояния и разработки персонализированных стратегий ведения пациентов.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО РУДН (протокол №3 от 23.12.2021). Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee of Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (protocol No. 3 dated 23.12.2021). Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
About the authors
Ayten F. Safarova
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia
Email: timtan@bk.ru
ORCID iD: 0000-0003-2412-5986
д-р мед. наук, проф., проф. каф. внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. акад. В.С. Моисеева Института клинической медицины Медицинского института, врач отд-ния функциональной диагностики Университетской клинической больницы им. В.В. Виноградова
Russian Federation, MoscowZhanna D. Kobalava
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia
Email: timtan@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-5873-1768
чл.-кор. РАН, д-р мед. наук, проф., зав. каф. внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. акад. В.С. Моисеева Института клинической медицины Медицинского института
Russian Federation, MoscowSouleyman Bilal Adam
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia
Email: timtan@bk.ru
ORCID iD: 0009-0006-7552-0010
аспирант каф. внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. акад. В.С. Моисеева Института клинической медицины Медицинского института
Russian Federation, MoscowTatiana M. Timofeeva
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: timtan@bk.ru
ORCID iD: 0000-0001-6586-7404
канд. мед. наук, ассистент каф. внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики им. акад. В.С. Моисеева Института клинической медицины Медицинского института, врач отд-ния функциональной диагностики Университетской клинической больницы им. В.В. Виноградова
Russian Federation, MoscowReferences
- Blondheim DS, Jacobs LE, Kotler MN, et al. Dilated cardiomyopathy with mitral regurgitation: decreased survival despite a low frequency of left ventricular thrombus. Am Heart J. 1991;122(3 Pt. 1):763-71. doi: 10.1016/0002-8703(91)90523-k
- Agricola E, Ielasi A, Oppizzi M, et al. Long-term prognosis of medically treated patients with functional mitral regurgitation and left ventricular dysfunction. Eur J Heart Fail. 2009;11(6):581-7. doi: 10.1093/eurjhf/hfp051
- Gertz ZM, Raina A, Saghy L, et al. Evidence of atrial functional mitral regurgitation due to atrial fibrillation: reversal with arrhythmia control. J Am Coll Cardiol. 2011;58(14):1474-81. doi: 10.1016/j.jacc.2011.06.032
- Kilic A, Schwartzman DS, Subramaniam K, Zenati MA. Severe functional mitral regurgitation arising from isolated annular dilatation. Ann Thorac Surg. 2010;90(4):1343-5. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.03.026
- Kajimoto K, Minami Y, Otsubo S, Sato N; Investigators of the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry. Ischemic or nonischemic functional mitral regurgitation and outcomes in patients with acute decompensated heart failure with preserved or reduced ejection fraction. Am J Cardiol. 2017;120(5):809-16. doi: 10.1016/j.amjcard.2017.05.051
- Riccardi M, Cikes M, Adamo M, et al. Functional mitral regurgitation and heart failure with preserved ejection fraction: clinical implications and management. J Card Fail. 2024;30(7):929-39. doi: 10.1016/j.cardfail.2024.02.024
- Галявич А.С., Терещенко С.Н., Ускач Т.М., и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162 [Galyavich AS, Tereshchenko SN, Uskach T.M, et. al. Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(11):6162 (in Russian)]. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6162
- Hagendorff A, Knebel F, Helfen A, et al. Echocardiographic assessment of mitral regurgitation: discussion of practical and methodologic aspects of severity quantification to improve diagnostic conclusiveness. Clin Res Cardiol. 2021;110(11):1704-33. doi: 10.1007/s00392-021-01841-y
- Balogh Z, Mizukami T, Bartunek J, et al. Mitral valve repair of atrial functional mitral regurgitation in heart failure with preserved ejection fraction. J Clin Med. 2020;9(11):3432. doi: 10.3390/jcm9113432
- Shah AM, Cikes M, Prasad N, et al. Echocardiographic features of patients with heart failure and preserved left ventricular ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2019;74(23):2858-73. doi: 10.1016/j.jacc.2019.09.063
- Bartko PE, Heitzinger G, Pavo N, et al. Treatment use, and outcome of secondary mitral regurgitation across the spectrum of heart failure: observational cohort study. BMJ. 2021;373:n1421. doi: 10.1136/bmj.n1421
- Tamargo M, Obokata M, Reddy YNV, et al. Functional mitral regurgitation and left atrial myopathy in heart failure with preserved ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2020;22(3):489-98. doi: 10.1002/ejhf.1699
- Sannino A, Smith RL 2nd, Schiattarella GG, et al. Survival and cardiovascular outcomes of patients with secondary mitral regurgitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA Cardiol. 2017;2(10): 1130-9. doi: 10.1001/jamacardio.2017.2976
- Bisbal F, Baranchuk A, Braunwald E, et al. Atrial failure as a clinical entity: JACC review topic of the week. J Am Coll Cardiol. 2020;75(2):222-32. doi: 10.1016/j.jacc.2019.11.013
- Dziadzko V, Dziadzko M, Medina-Inojosa JR, et al. Causes and mechanisms of isolated mitral regurgitation in the community: clinical context and outcome. Eur Heart J. 2019;40(27):2194-202. doi: 10.1093/eurheartj/ehz314
- Dziadzko V, Clavel MA, Dziadzko M, et al. Enriquez-Sarano M. Outcome and undertreatment of mitral regurgitation: a community cohort study. Lancet. 2018;391(10124):960-9. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30473-2
- Kajimoto K, Sato N, Takano T; Investigators of the Acute Decompensated Heart Failure Syndromes (ATTEND) registry. Functional mitral regurgitation at discharge and outcomes in patients hospitalized for acute decompensated heart failure with a preserved or reduced ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):1051-9. doi: 10.1002/ejhf.562
Supplementary files