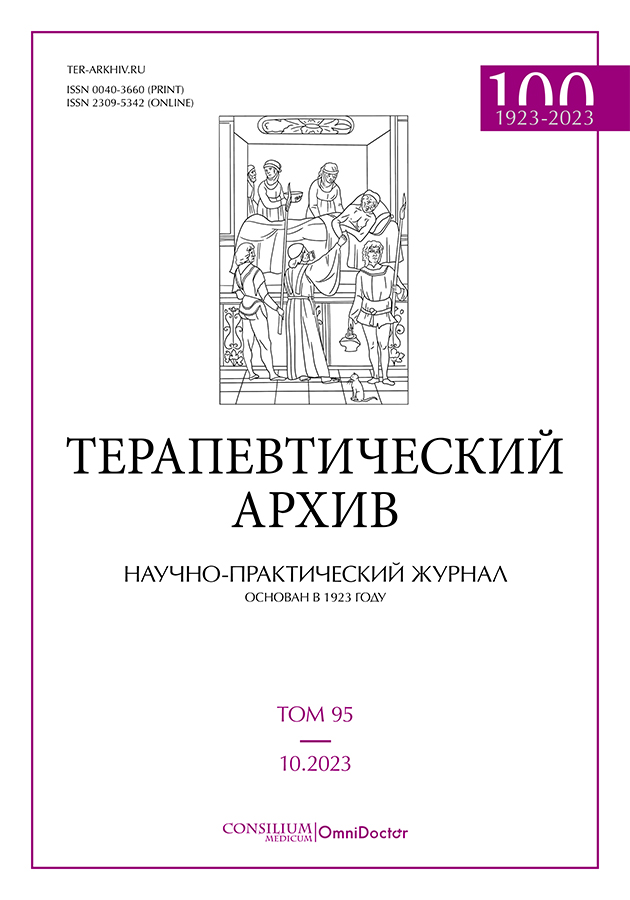Neurological manifestations of hypoparathyroidism: diagnostic difficulties. Case report
- 作者: Nuzhnyi E.P.1, Antonova K.V.1, Tanashyan M.M.1, Illarioshkin S.N.1
-
隶属关系:
- Research Center of Neurology
- 期: 卷 95, 编号 10 (2023)
- 页面: 864-869
- 栏目: Case reports
- ##submission.dateSubmitted##: 14.05.2022
- ##submission.datePublished##: 23.11.2023
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/107673
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2023.10.202429
- ID: 107673
如何引用文章
全文:
详细
Hypoparathyroidism is a rare condition characterized by reduced production of parathyroid hormone or tissue resistance which leads to hypocalcemia and hyperphosphatemia. Neurological manifestations often occur as the first symptoms of hypoparathyroidism and are characterized by a wide variety of symptoms of both the central and peripheral nervous systems dysfunction, which requires a differential diagnosis with a wide range of neurological diseases. Two clinical cases illustrating the features of subacute and chronic hypoparathyroidism are presented. In the case of subacute hypoparathyroidism, a young woman presented with severe tetany involving the oculomotor muscles (paroxysmal strabismus), laryngeal muscles (respiratory stridor), body muscles (opisthotonus, «obstetrician's hand») and the development of secondary myopathy. In another case with a long-term chronic course of postoperative hypoparathyroidism, the patient's adaptation to severe hypocalcemia was noted; the clinical features were dominated by cerebral syndromes due to brain structures calcification (Fahr's syndrome). Possible reasons for late diagnosis of hypoparathyroidism, the importance of active detection of symptoms of neuromuscular hyperexcitability and laboratory testing of phosphorus and calcium metabolism are discussed.
全文:
Список сокращений
ГМ – головной мозг
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
ОЩЖ – околощитовидные железы
ПТГ – паратиреоидный гормон
СМЖ – спинномозговая жидкость
УЗИ – ультразвуковое исследование
Введение
Гипопаратиреоз – достаточно редко встречающееся в практике невролога состояние, характеризующееся сниженной продукцией паратиреоидного гормона (ПТГ) околощитовидными железами (ОЩЖ) или резистентностью тканей к его действию, что приводит к нарушениям фосфорно-кальциевого обмена (гипокальциемия, гиперфосфатемия) [1].
Распространенность гипопаратиреоза составляет 0,25 на 1 тыс. населения [1], по данным зарубежных исследований – 23–46 случаев на 100 тыс. [2]. Официально в России распространенность гипопаратиреоза неизвестна, однако, по подсчетам специалистов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», это свыше 30–60 тыс. пациентов [3].
В настоящее время выделяют послеоперационный гипопаратиреоз (транзиторный, хронический), ауто- иммунный (в рамках аутоиммунных полигландулярных синдромов 1, 3 и 4-го типов, а также изолированный), генетический (изолированный, в составе поликомпонентных генетических синдромов), другие формы (нарушения обмена магния, инфильтративные заболевания ОЩЖ) и идиопатический гипопаратиреоз. Наиболее распространенным является послеоперационный гипопаратиреоз – около 75% всех случаев данной болезни [4]. Аутоиммунный характер заболевания с иммуноопосредованной деструкцией функциональных клеток ОЩЖ является второй по распространенности причиной гипопаратиреоза [5].
Недостаточность ПТГ сопровождается развитием гипокальциемии, что происходит за счет снижения активности остеокластов с уменьшением высвобождения кальция из костей, повышения экскреции кальция с мочой, подавления синтеза кальцитриола в почках и снижения абсорбции кальция из кишечника.
Клинические проявления гипопаратиреоза в первую очередь обусловлены гипокальциемией, а степень выраженности симптоматики зависит от уровня и скорости снижения кальция крови. Для хронического гипопаратиреоза характерна адаптация к гипокальциемии, выраженные клинические проявления могут отсутствовать. Провоцирующими ухудшения факторами являются возрастание физической активности, медицинские процедуры, беременность и лактация [1].
Гипокальциемия приводит к частичной деполяризации мембран нейронов, тем самым увеличивая вероятность возникновения потенциала действия, что приводит к повышению нервно-мышечной возбудимости. Гипервозбудимость сенсорных нейронов проявляется в виде парестезий в конечностях и периоральной области, моторных нейронов – в виде фибрилляций, фасцикуляций и мышечных спазмов (крампи, карпопедальный спазм, тетания, ларингоспазм), вегетативных нейронов – в виде бронхоспазма, тошноты, рвоты, запоров и диареи [6].
Тетанию необходимо дифференцировать с эпилепсией, неэпилептическими пароксизмальными состояниями, мышечной дистонией, конверсионными расстройствами. Поражение периферического нейромоторного аппарата при гипокальциемии может имитировать клиническую картину болезни двигательного нейрона, полиневропатии и миопатии, синдрома доброкачественных фасцикуляций, идиопатических крампи. Нервно-мышечная гипервозбудимость может быть диагностирована при исследовании симптомов Хвостека (спазм лицевой мускулатуры при перкуссии в области выхода лицевого нерва) и Труссо (судорога кисти через 2–3 мин после сдавления плеча манжетой для измерения артериального давления).
Наиболее тяжелым и жизнеугрожающим осложнением гипопаратиреоза является гипокальциемический криз, сопровождающийся приступами тетании, которым могут предшествовать парестезии лица, кистей и стоп, страх, тревога, фибриллярные подергивания отдельных мышц. Чаще всего мышечные спазмы возникают в верхних конечностях, реже в нижних. Может отмечаться спазм мускулатуры лица с сардонической улыбкой или формированием «рыбьего рта», тризм. Спазмы мышц верхних конечностей приводят к характерному положению руки – положительный симптом Труссо, называемый также «рука акушера»: пальцы сжаты и слегка приведены к ладони, I палец сведен, кисть согнута в лучезапястном суставе. При спазме мускулатуры нижних конечностей бедра и голени вытянуты, стопы ротированы кнутри, туловище выгибается кзади (опистотонус). Присоединяющееся сокращение межреберных мышц, мышц живота и диафрагмы резко нарушает дыхание. Спазмы гладкой мускулатуры могут способствовать развитию клинической картины различных заболеваний, в том числе имитировать приступы стенокардии. Острая гипокальциемия требует неотложного лечения.
Поражение центральной нервной системы чаще наблюдается при хронической гипокальциемии и в первую очередь связано с прогрессирующей кальцификацией структур головного мозга (ГМ): базальных ядер, таламусов, белого вещества больших полушарий и мозжечка, зубчатых ядер, что получило название «синдром Фара» (вторичный стрио- паллидодентатный кальциноз). Для данного синдрома характерно прогрессирующее течение, сочетание двигательных (паркинсонизм, дистония, хорея, миоклонус, тремор, атаксия), когнитивных и психических нарушений. «Золотым стандартом» выявления кальцификатов является проведение компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии ГМ в специальных режимах (Susceptibility Weighted Imaging и T2*-Weighted Imaging – T2*WI) [7].
Диагноз гипопаратиреоза устанавливается на основании лабораторных данных: сочетание гипокальциемии со снижением уровня ПТГ.
Приводим собственные наблюдения пациенток с гипопаратиреозом и превалирующей неврологической симптоматикой, у которых постановка диагноза вызвала ряд трудностей.
Описание клинических наблюдений
Клиническое наблюдение 1
Пациентка М., 1993 года рождения. В апреле 2016 г. (23 года) через месяц после родов (беременность протекала без осложнений, роды прошли в срок через естественные родовые пути) отметила появление эпизодов двоения и непостоянного косоглазия за счет левого глаза (отклонение вверх, кнутри, кнаружи; рис. 1). МРТ ГМ – без патологии. Исключена глазная форма миастении (отсутствие патологической утомляемости, отрицательный декремент-тест круговой мышцы глаза). С мая 2016 г. стали беспокоить внезапная дистоническая установка пальцев кистей («рука акушера»), приступы удушья инспираторного характера длительностью 30–40 с до 20 раз в день. Осмотрена терапевтом, неврологом, установлен диагноз «соматоформное расстройство».
Рис. 1. Пароксизмальный страбизм: а – отклонение левого глазного яблока вверх; b – кнутри; с – кнаружи.
Fig. 1. Paroxysmal strabismus: a – deviation of the left eye up; b – inwards; c – outwards.
В июне 2016 г. произошло нарастание дистонических гиперкинезов и приступов удушья. Госпитализирована в стационар г. Москвы c предварительным диагнозом «аутоиммунный энцефалит (?) полиморфное психотическое расстройство (?)». Во время госпитализации отмечалось нарастание тонуса в руках, больная отказывалась от еды, отмечались приступы повышения мышечного тонуса во всем теле с выгибанием туловища. На фоне введения галоперидола наросла заторможенность, вынужденное положение с запрокидыванием головы и сжатием кистей в кулак. Переведена в отделение реанимации, при проведении МРТ выявили признаки отека ГМ, при анализе спинномозговой жидкости (СМЖ) – цитоз и белок в норме, полимеразная цепная реакция СМЖ на вирусные инфекции – отрицательно, олигоклональный синтез в крови и СМЖ не обнаружен. В анализах крови: креатинкиназа – 2080 Ед/л (0–190), лактатдегидрогеназа – 1162 Ед/л (135–214), тирео- тропный гормон – 1,43 мкМЕ/мл (0,4–4,0), остальные показатели в пределах нормы. Фосфорно-кальциевый обмен не исследовался. Видео-электроэнцефалографический мониторинг: эпилептиформная активность не выявлена. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек и надпочечников – без патологии. Проводились инфузии сульфата магния – с положительным эффектом в виде нормализации мышечного тонуса и поведения. Выписана с улучшением.
Амбулаторно выявлено легкое повышение лактата в крови до 2,4 ммоль/л (0,5–2,2). Заподозрена митохондриальная энцефаломиопатия, панельное секвенирование 62 ядерных генов, мутации в которых приводят к митохондриальной патологии – клинически значимых мутаций не выявлено.
В августе 2016 г. утром развился приступ с отключением сознания, тонико-клоническими судорогами и прикусом языка. Ночной видео-электроэнцефалографический мониторинг – без эпилептиформной и очаговой активности. Через 2 нед возник повторный приступ: во сне развился кашель, затем приступ удушья, после чего челюсти сомкнулись, прикусила язык и губы, была без сознания 1–2 мин с последующей амнезией приступа.
В сентябре 2016 г. госпитализирована в ФГБНУ «Научный центр неврологии» для уточнения диагноза. В общем анамнезе: сопутствующие заболевания отрицает, семейный анамнез не отягощен по эндокринным и неврологическим заболеваниям. При осмотре в соматическом статусе – без особенностей, кожные покровы и слизистые оболочки чистые. Клинических признаков кандидоза не отмечено. В неврологическом статусе отмечались мышечная гипотония, снижение глубоких рефлексов при сохранной силе мышц. Во время осмотра: приступы кашля, ларингеальный стридор (длительностью до 1 мин), регрессирующие самостоятельно с последующей дисфонией. Положительные симптомы Хвостека и Труссо.
Общие анализы крови, мочи в норме, миоглобин в моче не выявлен. В биохимическом анализе крови: креатинкиназа – 2899 Ед/л (0–190), лактатдегидрогеназа – 653 Ед/л (135–214), С-реактивный белок – 9,2 мг/л (0–5), щелочная фосфатаза – 344,1 Ед/л (0–177), кальций общий 1,63 ммоль/л (2,0–2,7), кальций ионизированный 1,08 ммоль/л (1,16–1,32), 25(ОН) витамин D – 46 нг/мл (30–100), ПТГ – 4,55 пг/мл (9,5–62), магний – 0,71 ммоль/л (0,66–1,07), фосфор неорганический – 2,97 ммоль/л (0,87–1,45). Скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKD-EPI) – 99 мл/мин/1,73 м2.
Анализ суточной мочи: кальций – меньше 0,75 ммоль/сут (2,5–7,5), фосфор – 12,5 ммоль/сут (12,9–40,0).
Электрокардиограмма: ритм синусовый, 69 в мин, удлинение интервала Q–T – 0,49 с (0,32–0,45). КТ ГМ без признаков кальцификации мозговых структур. Игольчатая электромиография: признаки первично-мышечного уровня поражения. УЗИ щитовидной железы и ОЩЖ без особенностей.
Установлен диагноз «тетания с вовлечением глазодвигательных мышц, мышц гортани и тела; состояние после перенесенных повторных генерализованных судорожных приступов от августа 2016 г. Вторичная миопатия. Первичный гипопаратиреоз. Гипокальциемия». Инициирована терапия препаратами кальция. На фоне приема первых 3 таблеток кальция карбоната 500 мг достигнут «драматический» клинический эффект. В результате проводимого лечения (альфакальцидол 1 мкг/сут, кальция карбонат 1500 мг/сут) в течение 5 дней приступы удушья полностью регрессировали. Выписана с улучшением. Катамнез – 5 лет, на фоне регулярного приема препаратов (альфакальцидол, препараты кальция) и контроля фосфорно-кальциевого обмена неврологической симптоматики нет.
Клиническое наблюдение 2
Пациентка К., 1960 года рождения. В 1995 г. перенесла тиреоидэктомию (по поводу зоба Хашимото, согласно выписному эпикризу), после чего периодически отмечала парестезии в руках и ногах. Изредка беспокоили спазмы мышц конечностей. К этому состоянию адаптировалась. К врачу по данному поводу не обращалась, фосфорно-кальциевый обмен не исследовался. Состояние длительное время оставалось стабильным. По поводу первичного гипотиреоза в исходе тиреоидэктомии длительно принимала L-Тироксин 100 мкг/сут. Поддерживался стойкий эутиреоз. В 2003 г. выявлена остеопения, рекомендована коррекция питания.
С начала 2019 г. (в возрасте 59 лет) отметила замедленность мышления и движений, снижение памяти. Обратилась к неврологу, диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию. Проводилась нейрометаболическая терапия – без эффекта. С конца июня 2019 г. присоединились нечеткость речи, осиплость голоса, отметила трудности концентрации внимания, ухудшение памяти. В анамнезе нет указаний на артериальную гипертензию, нарушения мозгового кровообращения, ишемическую болезнь сердца, заболевания периферических артерий.
При проведении МРТ ГМ дважды от июня и августа 2019 г. выявлены симметричные области поражения в лобных, теменных и затылочных долях, базальных ядер и гемисфер мозжечка, без признаков накопления контрастного вещества (рис. 2). Результаты МРТ расценены как «проявления синдрома осмотической демиелинизации (?) или энцефалита (?)». Проводились инфузии метилпреднизолона, дексаметазона, в дальнейшем – терапия таблетированным преднизолоном менее 1 мес (дозы неизвестны) с положительным эффектом в виде улучшения речи. В августе 2019 г. при падении с высоты собственного роста получила закрытый перелом обеих лучевых костей в нижней трети (проводился остеосинтез аппаратом Илизарова).
Рис. 2. МРТ ГМ пациентки К.: а – определяется гиперинтенсивный сигнал в режиме Т1 в проекции базальных ядер и таламусов; b – гиперинтенсивность белого вещества лобных, теменных и затылочных долей в режиме Т2-FLAIR; с – симметричный гипоинтенсивный сигнал в области базальных ядер; d – в полушариях мозжечка в режиме T2*WI.
Fig. 2. Brain MRI study of patient K.: a – hyperintense signal in the T1 mode in the projection of the basal ganglia and thalamus; b – white matter hyperintensity of the frontal, parietal and occipital lobes in the T2-FLAIR mode; c – symmetric hypointense signal in the basal ganglia; d – cerebellar hemispheres in T2*WI mode.
В сентябре 2019 г. обратилась в ФГБНУ «Научный центр неврологии» с направительным диагнозом «энцефаломиелит» с жалобами на замедленность движений, шаткость при ходьбе, нечеткость речи, снижение памяти. Судороги и мышечные подергивания не беспокоили.
При осмотре в неврологическом статусе выявлялись умеренные когнитивные нарушения (брадифрения, ошибки в тесте рисования часов, отсроченное воспроизведение – 2 слова из 5), горизонтальный нистагм, легкая дизартрия и дисфония, общая брадикинезия, мозжечковая атаксия (неустойчивость в пробе Ромберга, интенционный тремор и легкая дисметрия при выполнении координаторных проб), подволакивание левой ноги при ходьбе. Положительный симптом Хвостека с обеих сторон. Симптом Труссо – отрицательный.
На момент обращения принимала альфакальцидол 0,5 мкг в день, кальция карбонат 500 мг в день, левотироксин натрия 100 мкг в день, ацетилсалициловую кислоту 75 мг плюс магния гидроксид 15,2 мг в день.
Изображения МРТ повторно пересмотрены совместно неврологом и рентгенологом. Заключение: данные МРТ, вероятнее всего, соответствуют стриопаллидодентатному кальцинозу (синдром Фара) с поражением белого вещества (лейкоэнцефалопатия), базальных ядер и мозжечка (см. рис. 2).
Результаты анализов крови от сентября 2019 г.: кальций общий – 1,37 ммоль/л (2,1–2,55), кальций ионизированный – 0,65 ммоль/л (1,03–1,23), фосфор – 2,08 ммоль/л (0,74–1,52), магний – 0,61 ммоль/л (0,66–0,99), тиреотропный гормон – 1,12 мМЕ/л (0,4–4,0), ПТГ – 0,34 пмоль/л (1,6–6,9), 25(ОН) витамин D – 28 нг/мл (30–100).
При проведении двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости выявили снижение минеральной плотности костной ткани в позвонках LI–LIII до уровня остеопении, t-критерий равен -1,7 стандартного отклонения.
Установлен диагноз «стриопаллидодентатный кальциноз (синдром Фара). Хронический послеоперационный гипопаратиреоз в исходе хирургического вмешательства на органах шеи от 1995 г. Гипокальциемия. Недостаток витамина D. Тяжелый остеопороз с развитием закрытых переломов обеих лучевых костей в нижней трети от августа 2019 г. – справа с угловым смещением, слева оскольчатый со смещением. Первичный гипотиреоз в исходе тиреоидэктомии от 1995 г., медикаментозная компенсация».
При первичном подтверждении гипокальциемии, гипомагниемии, гиповитаминоза D и гипопаратиреоза рекомендована терапия альфакальцидолом 1,5 мкг/сут, препаратами кальция суммарно 1500 мг/сут, препаратами колекальциферола в насыщающей дозе с переходом на поддерживающую, препаратом магния. Продолжена заместительная терапия гипотиреоза. Далее присоединена терапия остеопороза.
Динамика состояния: пациентка получает длительно терапию препаратами кальция, колекальциферола и активного метаболита витамина D. Терапия и коррекция доз принимаемых препаратов осуществляются с учетом результатов мониторинга показателей крови и мочи, проводилось ультразвуковое исследования почек. На фоне терапии пациентка отмечает улучшение походки и координации движений, улучшились речь, память и внимание.
В 2021 г. на фоне противоостеопоротической терапии перенесла перелом правой плечевой кости при падении с высоты собственного роста.
Обсуждение
Приведенные клинические случаи демонстрируют широкое разнообразие и значительный полиморфизм клинических (в первую очередь неврологических) проявлений гипопаратиреоза. Различия симптоматики, вероятнее всего, обусловлены особенностями течения гипопаратиреоза (острое и хроническое).
В первом наблюдении (пациентка М.) неврологические проявления дебютировали остро с развития эпизодов тетании глазодвигательных мышц (пароксизмальный страбизм), быстрым присоединением тетании мышц гортани, конечностей и туловища. За весь период болезни (6 мес) заподозрены шесть различных заболеваний (миастения, соматоформное расстройство, аутоиммунный энцефалит, острый психоз, митохондриальная болезнь, эпилепсия). Примечательными являются редкие проявления гипокальциемии у данной пациентки: дебют с глазодвигательных нарушений, а также высокие значения креатинкиназы, лактатдегидрогеназы и признаки первично-мышечного поражения при проведении электромиографии, что свидетельствует о развитии вторичной миопатии при отсутствии мышечной слабости. Пароксизмальный страбизм является редким проявлением гипопаратиреоза и обычно свидетельствует о тяжелой гипокальциемии [8]. Миопатия при гипопаратиреозе может проявляться утомляемостью, миалгиями, парезами, нейромиотонией, а также протекать бессимптомно с повышением уровня мышечных ферментов и миоглобина [9, 10], в редких случаях развивается рабдомиолиз [11].
Клиническая картина у пациентки М. представлена изолированным гипопаратиреозом при отсутствии клинико-лабораторных признаков слизисто-кожного кандидоза и других заболеваний, характерных для аутоиммунных полигландулярных синдромов (тиреоидит, болезнь Аддисона, сахарный диабет 1-го типа, целиакия, витилиго и др.) [12]. Отсутствие кальцификатов в ГМ свидетельствует о недавнем дебюте болезни. Кроме того, отрицательный семейный анамнез, возраст дебюта и отсутствие признаков полиорганного поражения не типично для наследственных форм гипопаратиреоза (изолированных, митохондриальных, синдромальных). Таким образом, несмотря на отсутствие проведенного генетического исследования (по причине его высокой стоимости), наиболее вероятным диагнозом является «изолированный аутоиммунный гипопаратиреоз». Однако нельзя исключить более редкие аутосомно-рецессивные (гены PTH, GCM2) или аутосомно-доминантные с мутацией de novo (гены PTH, GCM2, CaSR) формы гипопаратиреоза [12].
Клиническая картина заболевания пациентки К. (наблюдение 2) демонстрирует хроническое длительное течение послеоперационного гипопаратиреоза. На начальных этапах жалобы были неспецифичны (парестезии, спазмы мышц), что не заставляло пациентку и врачей искать их причины. Диагноз гипопаратиреоза установили лишь спустя 24 года (!) после паратиреоидэктомии, когда развились серьезные осложнения – синдром Фара с развернутой неврологической симптоматикой (когнитивные и двигательные нарушения). Кроме того, жалоб, характерных для гипокальциемии (парестезий в конечностях и периоральной области, мышечных спазмов) на момент обращения в 2019 г. не было. При этом отмечено снижение уровней кальция, магния, витамина D и ПТГ. Пациентка была адаптирована к низким уровням кальция крови с отсутствием выраженной клинической картины даже при тяжелой гипокальциемии. Патогенез кальцификации базальных ядер при гипопаратиреозе и гипокальциемии до конца не изучен. Однако ключевым звеном считается гиперфосфатемия: высокий уровень фосфатов в крови приводит к активации переносчика неорганических фосфатов SLC20A1 и гиперэкспрессии остеогенных молекул в хвостатом ядре и сером веществе ГМ [13].
Обращают на себя внимание повторные переломы у пациентки К., в том числе и на противоостеопоротической терапии. Тяжелый остеопороз с низкоэнергетическими переломами не является характерным клиническим проявлением гипопаратиреоза. Представленный случай соотносится с данными C. Cipriani и соавт. о повышении частоты переломов у женщин с послеоперационным гипопаратиреозом в постменопаузе даже при отсутствии значительного снижения минеральной плотности кости [14]. Возможным объяснением может служить то, что хронический дефицит ПТГ у пациентов связан с глубоким снижением ремоделирования кости с последующим увеличением плотности кости и аномалиями микроархитектоники и прочности кости [15].
Необходимо отметить, что при появлении у пациентки К. двигательных и когнитивных нарушений установили диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия» при отсутствии значимых сердечно-сосудистых факторов риска и данных нейровизуализации, также не учли данные анамнеза (операция на органах шеи), что привело к назначению неэффективной терапии. Несвоевременная диагностика заболевания связана в том числе с неправильной трактовкой результатов МРТ ГМ, когда признаки кальцификации расценили как проявления синдрома осмотической демие- линизации (при отсутствии соответствующей клинической картины и электролитных нарушений в анамнезе) или воспалительного процесса (энцефалит). В ряде случаев МРТ-картину при синдроме Фара необходимо дифференцировать с накоплением других металлов в ГМ: меди (болезнь Вильсона), железа (наследственные нейродегенерации с накоплением железа), марганца (печеночная энцефалопатия), а также с наследственными моногенными формами кальцификации базальных ядер (болезнь Фара). В таких случаях рекомендовано проведение КТ ГМ (более чувствительна для выявления кальцификатов) либо МРТ ГМ в режимах Susceptibility Weighted Imaging и T2*WI, а также сопоставление клинической картины с данными анамнеза (в том числе семейного) и лабораторных обследований.
Заключение
Неврологические проявления гипопаратиреоза разнообразны, малоспецифичны и могут зависеть от темпа течения (острое, хроническое). У пациентов с неврологической симптоматикой без очевидного диагноза необходимо активно выявлять клинические симптомы гипокальциемии (Труссо, Хвостека и другие описанные выше клинические проявления), проводить исследование уровня кальция в крови. Своевременная диагностика гипопаратиреоза позволяет вовремя начать лечение, улучшить прогноз и качество жизни больных, а также избежать жизнеугрожающих осложнений.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
作者简介
Evgenii Nuzhnyi
Research Center of Neurology
编辑信件的主要联系方式.
Email: enuzhny@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3179-7668
канд. мед. наук, врач-невролог 5-го неврологического отд-ния
俄罗斯联邦, MoscowKsenia Antonova
Research Center of Neurology
Email: kseniya.antonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2373-2231
д-р мед. наук, вед. науч. сотр. 1-го неврологического отд-ния
俄罗斯联邦, MoscowMarine Tanashyan
Research Center of Neurology
Email: mtanashyan@neurology.ru
ORCID iD: 0000-0002-5883-8119
чл.-кор. РАН, проф., зам. дир. по науч. работе, зав. 1-м неврологическим отд-нием
俄罗斯联邦, MoscowSergey Illarioshkin
Research Center of Neurology
Email: snillario@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-2704-6282
чл.-кор. РАН, проф., зам. дир. по науч. работе, рук. отд. исследований мозга
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Ковалева Е.В., Еремкина А.К., Крупинова Ю.А., и др. Обзор клинических рекомендаций по гипопаратиреозу. Проблемы эндокринологии. 2021;67(4):68-83 [Kovaleva EV, Eremkina AK, Krupinova JA, et al. Review of clinical practice guidelines for hypoparathyroidism. Probl Endokrinol (Mosk). 2021;67(4):68-83 (in Russian)]. doi: 10.14341/probl12800
- Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L. Cardiovascular and renal complications to postsurgical hypoparathyroidism: A Danish nationwide controlled historic follow-up study. J Bone Miner Res. 2013;28(11):2277-85. doi: 10.1002/jbmr.1979
- Мокрышева Н.Г., Еремкина А.К., Ковалева Е.В., и др. Современные проблемы гипер- и гипопаратиреоза. Терапевтический архив. 2021;93(10):1149-54 [Mokrysheva NG, Eremkina AK, Kovaleva EV, et al. Modern problems of hyper- and hypoparathyroidism. Terapevticheskii Arkhiv (Ter Arkh). 2021;93(10):1149-54 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2021.10.201109
- Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L. Postsurgical hypoparathyroidism – risk of fractures, psychiatric diseases, cancer, cataract, and infections. J Bone Miner Res. 2014;29(11):2504-10. doi: 10.1002/jbmr.2273
- Cutolo M. Autoimmune polyendocrine syndromes. Autoimmun Rev. 2014;13(2):85-9. doi: 10.1016/j.autrev.2013.07.006
- Chou CT, Siegel B, Mehta D. Stridor and apnea as the initial presentation of primary hypoparathyroidism. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;80:30-2. doi: 10.1016/j.ijporl.2015.11.023
- Хорева М.А., Смагина И.В. Кальцификация базальных ганглиев. Этиопатогенез, диагностика, клинические проявления. Российский неврологический журнал. 2020;25(4):4-13 [Khoreva MA, Smagina IV. Basal ganglia calcification. Aetiopathogenesis, diagnostics, clinical manifestations. Russian Neurological Journal. 2020;25(4):4-13 (in Russian)]. doi: 10.30629/2658-7947-2020-25-4-4-13
- Escudier A, Giabicani E, Neven B, et al. Paroxysmal strabismus and stridor acquired in childhood: Do not overlook calcemia! Arch Pediatr. 2020;27(2):104-6. doi: 10.1016/j.arcped.2019.12.006
- Zambelis T, Licomanos D, Leonardos A, Potagas C. Neuromyotonia in idiopathic hypoparathyroidism. Neurol Sci. 2009;30(6):495-7. doi: 10.1007/s10072-009-0140-9
- Dai CL, Sun ZJ, Zhang X, Qiu MC. Elevated muscle enzymes and muscle biopsy in idiopathic hypoparathyroidism patients. J Endocrinol Invest. 2012;35(3):286-9. doi: 10.3275/7679
- Akmal M. Rhabdomyolysis in a patient with hypocalcemia due to hypoparathyroidism. Am J Nephrol. 1993;13(1):61-3. doi: 10.1159/000168590
- Bilezikian JP. Hypoparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(6):1722-36. doi: 10.1210/clinem/dgaa113
- Donzuso G, Mostile G, Nicoletti A, Zappia M. Basal ganglia calcifications (Fahr's syndrome): related conditions and clinical features. Neurol Sci. 2019;40(11):2251-63. doi: 10.1007/s10072-019-03998-x
- Cipriani C, Minisola S, Bilezikian JP, et al. Vertebral Fracture Assessment in Postmenopausal Women With Postsurgical Hypoparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(5):1303-11. doi: 10.1210/clinem/dgab076
- Silva BC, Bilezikian JP. Skeletal abnormalities in Hypoparathyroidism and in Primary Hyperparathyroidism. Rev Endocr Metab Disord. 2021;22(4):789-802. doi: 10.1007/s11154-020-09614-0
补充文件