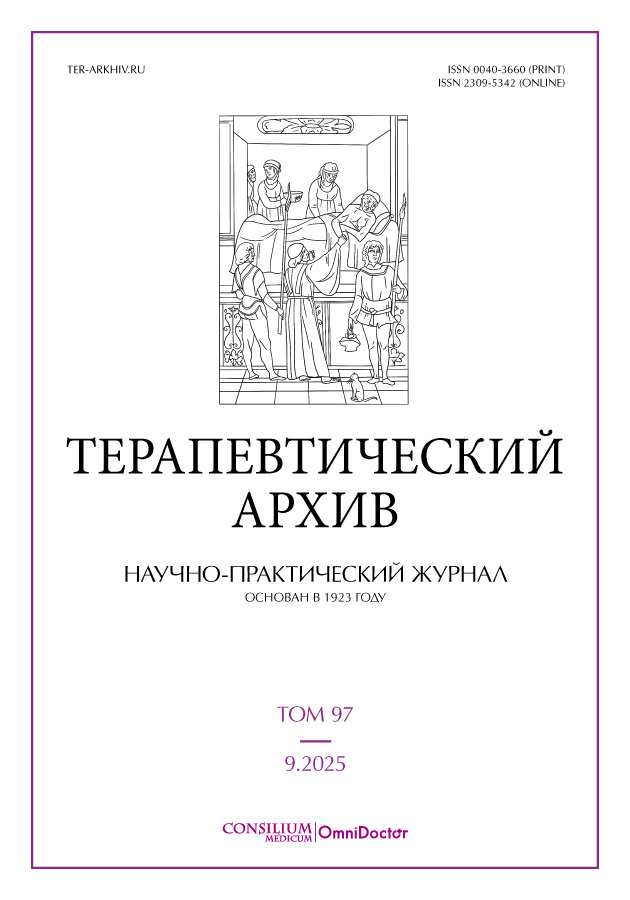Phenotypic clusters of obesity: gender, clinical, laboratory and genetic characteristics
- Authors: Podzolkov V.I.1, Bragina A.E.1, Vasilchenko M.K.1, Osadchiy K.K.1, Pilipenko M.O.1, Antonenko V.A.1, Mansimova L.B.1, Rodionova Y.N.1
-
Affiliations:
- Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Issue: Vol 97, No 9 (2025): Issues of cardiology
- Pages: 773-780
- Section: Original articles
- Submitted: 02.07.2025
- Accepted: 02.07.2025
- Published: 20.10.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/686558
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.09.203369
- ID: 686558
Cite item
Full Text
Abstract
Aim. To identify phenotypic clusters of patients with various types of obesity and to study their gender, clinical, laboratory and genetic characteristics.
Materials and methods. 100 patients (47 men and 53 women, median age 58.5 [50; 69] years) were included in the cross-sectional study. All patients underwent chest and retroperitoneal space computed tomography with the calculation of pericardial, perivascular adipose tissue volumes and the thickness of perirenal fat. Alleles and genotypes of the peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPARG) rs1801282 polymorphism, angiotensin II receptor type 1 (AGTR1) rs5186 polymorphism, and vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) rs699947 polymorphism were identified in all patients. Cluster analysis was performed with python version 3.11. using the k-means algorithm. Silhouette value 0.2.
Results. Cluster 1 (n=36) consisted of middle-aged patients (men – 38.9%) with hypertension (HTN) – 100%, combined obesity [general obesity (GO) – 61%, abdominal obesity (AO) – 100%, ectopic obesity – 80.5%] and dyslipidaemia (77.8%). Cluster 2 included 14 patients: elderly (77.8%) men (71.4%) with HTN (100%), combined obesity (GO – 92.8%, AO – 85.7%, ectopic obesity – 100%), high incidence of dyslipidaemia (92.8%) and target organ damage. Cluster 3 consisted of 21 patients, mostly elderly (87.5%) women (76.2%) with HTN (90.1%), AO (80.9%), without GO (0%) and perirenal obesity (0%). Cluster 4 consisted of 29 patients, mostly young men without HTN (0%) with isolated AO (72.4%). The highest prevalence of risky alleles of the studied polymorphisms was found in cluster 2 (25, 32.1, 64.3%). The frequency of risky alleles was low 10.3, 20.7 and 43.1% in the most metabolically favourable cluster 4 compared to cluster 2.
Conclusion. We identified 4 clusters of obese patients in our study. Among them, the most unfavorable from a metabolic and genetic point of view was cluster 2, and the most favourable was cluster 4.
Full Text
Список сокращений
АГ – артериальная гипертензия
АО – абдоминальное ожирение
ИзМТ – избыточная масса тела
ИМТ – индекс массы тела
МЗО – метаболически здоровое ожирение
ОНП – однонуклеотидный полиморфизм
ОО – общее ожирение
ОТ – окружность талии
ПВЖТ – периваскулярная жировая ткань
ПВО – периваскулярное ожирение
ПКЖТ – перикардиальная жировая ткань
ПКО – перикардиальное ожирение
ПНЖТ – паранефральная жировая ткань
ПНО – паранефральное ожирение
СКФ – скорость клубочковой фильтрации
ФР – фактор риска
ЭО – эктопическое ожирение
Введение
Ожирение – один из основных факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Более того, результаты последних эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что количество лиц с ожирением продолжает неуклонно расти [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в 2024 г., избыточную массу тела (ИзМТ) имеют 2,5 млрд взрослых людей старше 18 лет, из них 890 млн человек страдают ожирением [2].
Как и большинство хронических заболеваний, ожирение отличается полиэтиологичностью, многофакторностью патогенеза и многогранностью клинических проявлений. В связи с этим глобальный тренд современной медицины – фенотип-ориентированный подход, описывающий заболевания с точки зрения совокупности их свойств и признаков, сложившихся в процессе индивидуального развития. В настоящее время описаны и внедрены в практику фенотипы таких заболеваний, как артериальная гипертензия (АГ), хроническая сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, и ряда других хронических неинфекционных заболеваний [3–6].
Ожирение характеризуется гетерогенностью как в метаболическом плане, так и в связи с особенностью распределения жировой ткани, наличием висцеральных и эктопических жировых депо, которые играют важную роль в этиопатогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Формируется понимание того, что индекс массы тела (ИМТ) не отражает кардиометаболического риска пациента без учета фенотипа ожирения [5].
Попытки выделения различных фенотипов ожирения предпринимались и ранее. Тем не менее единые подходы в их определении отсутствуют. Наиболее широко обсуждают 4 фенотипа – метаболически здоровое ожирение (МЗО), метаболически нездоровое ожирение, метаболически здоровый при нормальной массе тела и метаболически нездоровый при нормальной массе тела [7], использующие ИМТ как критерий наличия ожирения. Особый интерес представляет фенотип МЗО, поскольку он ярко демонстрирует рассогласование показателя ИМТ с метаболическим статусом. Основная критика этого фенотипа базируется на результатах проспективных наблюдений. В 2013 г. C. Kramer и соавт. опубликовали метаанализ, включивший 8 исследований и 61 386 пациентов, который показал, что в долгосрочной перспективе (≥10 лет) люди с МЗО подвержены более высокому риску неблагоприятных исходов, связанных со всеми причинами, по сравнению с лицами с нормальной массой тела [8]. Трансформация МЗО в метаболически нездоровое ожирение также продемонстрирована в ходе проспективного 30-летнего наблюдения 90 257 женщин в исследовании N. Eckel и соавт. [9]. Исходя из этого высказывается мнение, что MЗO может быть начальной стадией развития ожирения [10].
Исследований, посвященных выделению фенотипов ожирения с учетом эктопических жировых депо, крайне мало. В исследовании А.В. Отт и Г.А. Чумаковой (2018 г.) сопоставлены пациенты с АГ с эпикардиальным ожирением и без него. Авторы выявили связь эпикардиального ожирения с дислипидемией и мультифокальным субклиническим атеросклерозом, что еще раз подчеркивает вклад эктопических депо в формирование кардиометаболических нарушений [11].
Cущественный вклад в формирование гетерогенности ожирения принадлежит генетическому полиморфизму. В Полногеномном поиске ассоциаций (Genome-Wide Association Studies – GWAS) идентифицированы однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) как минимум 22 генов, которые имеют связь с распределением жировой ткани [12–16].
Цель исследования – выделение фенотипических кластеров пациентов с различными вариантами ожирения и изучение их гендерных, клинико-лабораторных и генетических характеристик.
Материалы и методы
В кросс-секционное исследование включены 100 пациентов (47 мужчин и 53 женщины, медиана возраста 58,5 [50; 69] лет), обследованных в Университетской клинической больнице №4 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский Университет).
Критерии включения в исследование: возраст >18 лет, подписанное информированное согласие на участие в исследовании. Исследование проводили в соответствии с Хельсинкской декларацией о правах человека. Проведение исследования одобрено на заседании Локального этического комитета от 08.12.2022 (протокол №25-22).
Критерии невключения: симптоматическая АГ, клапанные пороки сердца, хроническая сердечная недостаточность III–IV функционального класса, воспалительные заболевания любой этиологии, системные заболевания соединительной ткани, тяжелые заболевания печени и почек, онкологические заболевания, беременность, психические заболевания.
У всех пациентов проведен сбор жалоб и анамнеза, оценены анамнестические данные – наличие сопутствующих заболеваний, статус курения, измерены антропометрические показатели: рост, масса тела, окружность талии (ОТ). ИМТ рассчитывали по формуле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2). Наличие ИзМТ, общего (ОО) и абдоминального ожирения (АО), степени ожирения определяли в соответствии с междисциплинарными клиническими рекомендациями «Лечение ожирения и коморбидных заболеваний», 2021 г. [17]. Наличие ОО определяли при ИМТ≥30 кг/м2; АО диагностировали при ОТ>94 см у мужчин и >80 см у женщин [17].
Биохимическое исследование крови, включающее оценку показателей липидного спектра, уровня гликемии, проводили по стандартным методикам.
Исследуемым пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную томографию грудной клетки и забрюшинного пространства в спиральном режиме на томографе Toshiba Aquilion Prime по стандартизованному протоколу с пиковым напряжением на трубке 120 кВ и автоматическим выбором силы тока в диапазоне от 100 до 500 мА, с толщиной среза 1 мм [18, 19].
Объемы перикардиальной (ПКЖТ) и периваскулярной жировой ткани (ПВЖТ) определяли полуавтоматическим методом на единственном срезе на уровне переднего отрезка пятого межреберья. Для оценки количества ПКЖТ и ПВЖТ в программном модуле Tissue Composition Module проводили локализацию зон интереса путем оконтуривания изображений жировой ткани вокруг сердца и грудной аорты. Толщину паранефральной жировой ткани (ПНЖТ), состоящей из пара- и периренальной жировой клетчатки, определяли на одном срезе на уровне левой почечной вены с использованием специализированного программного обеспечения QCT Pro Tissue Composition Module (Mindways Software, США) после калибровки томографа по специальному фантому [18, 19]. Объем ПКЖТ≥3,2 см3 и объем ПВЖТ≥0,4 см3 считали критериями перикардиального и периваскулярного ожирения, толщину ПНЖТ≥1,91 см – критерием паранефрального ожирения [20–24].
Из общей выборки выделены 100 пациентов, подписавших согласие на генетическое исследование, которым идентифицировали аллели и генотипы полиморфных маркеров rs1801282 гена рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом (PPARG), rs5186 гена рецептора 1-го типа ангиотензина 2 (AGTR1), rs699947 гена фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-A) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в препаратах ДНК человека, полученных из венозной крови, с использованием аллель-специфичных TagMan-зондов на оборудовании Real-time CFX96C1000 Touch, Bio-Rad. Для выделения ДНК из анализируемого материала использовали комплект реагентов «ДНК-Экстран-1» (ООО НПФ «Синтол»).
В результате для полиморфного маркера rs1801282 гена PPARG идентифицированы аллели С и G, генотипы C/C, С/G, G/G; для полиморфного маркера rs5186 гена AGTR1 – аллели А и С, генотипы А/А, А/С, С/С; для полиморфного маркера rs699947 гена VEGF-A – аллели А и С, генотипы А/А, А/С, С/С.
Результаты обрабатывали с использованием статистического пакета программ IBM SPSS Statistics 27. При нормальном распределении величин рассчитывали среднее значение и стандартное отклонение (М±σ). При непараметрическом распределении данных рассчитывали медиану и интерквартильный размах (Mе [Q25; Q75]). При межгрупповом сравнении нескольких независимых выборок количественных показателей использовали критерий Краскела–Уоллиса, при внутригрупповом сравнении 2 независимых выборок – непараметрический U-критерий Манна–Уитни, при сравнении качественных характеристик – критерий χ2 Пирсона. Статистически значимым считали результат при вероятности ошибки p<0,05.
Кластерный анализ выполнен на языке программирования Python версии 3.11 с использованием библиотек Pandas, Numpy и Scikit-learn. Для кластерного анализа использовали алгоритм k-средних, качество разделения кластеров оценивали на основании значения силуэтной меры связывания.
Для выявления всех возможных связей между частотами различных генотипов и фенотипов ожирения проведен статистический анализ. Частоты аллелей (%) рассчитывали на основании подсчета генов и генотипов. Частоты полиморфизмов генов сопоставляли с распространенностью генотипов и аллелей, полученных из открытой базы данных 1000 Genomes Browsers (A Deep Catalog of Human Genetic Variation) [25]. Частоты каждого ОНП сравнивали с ожидаемыми для популяции в соответствии с равновесием Харди–Вайнберга.
Результаты
В кластерный анализ включены 100 пациентов. Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов представлена в табл. 1.
Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов Table 1. Clinical and demographic characteristics of all patients in the study | |
Показатель | Значение |
Пол: муж/жен, абс. | 47/53 |
Возраст, лет | 58,5 [50; 69] |
ИМТ, кг/м2 | |
ИзМТ (ИМТ≥25 кг/м2), абс. | 32 |
Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), абс. | 43 |
Степень ожирения I/II/III, абс. | 72/26/2 |
Курение, да/нет, абс. | 23/77 |
АГ, абс. | 69 |
Дислипидемия, абс. | 66 |
ПКЖТ, см3 | |
ПВЖТ, см3 | |
ПНЖТ, см | |
На основании кластерного анализа, выполненного методом k-средних с использованием клинико-анамнестических, антропометрических и функциональных характеристик, выделено 4 фенотипические группы, характеристика которых представлена в табл. 2 в виде тепловой карты.
Таблица 2. Тепловая карта результатов кластерного анализа пациентов с различными фенотипами ожирения Table 2. Clustered heat map of patients with various phenotypes of obesity | ||||
Кластер 1 | Кластер 2 | Кластер 3 | Кластер 4 | |
Абс. | 36 | 14 | 21 | 29 |
Муж, % | 38,9 | 71,4 | 23,8 | 62,1 |
Жен, % | 61,1 | 28,6 | 76,2 | 37,9 |
Возраст >60 лет, % | 51,6 | 77,8 | 87,5 | 4,2 |
Ожирение (ИМТ≥30 кг/м2), % | 61 | 92,8 | 0 | 27,6 |
Курение, % | 22,2 | 57,1 | 33 | 0 |
Дислипидемия, % | 77,8 | 92,8 | 76 | 31 |
АО, % | 100 | 85,7 | 80,9 | 72,4 |
ЭО, % | 80,5 | 100 | 62 | 35,5 |
ПКО, % | 54,8 | 100 | 37,5 | 8,3 |
ПВО, % | 45,2 | 88,9 | 62,5 | 16,7 |
ПНО, % | 35,5 | 66,7 | 0 | 20,8 |
АГ, % | 100 | 100 | 90,1 | 0 |
СКФ<60 мл/мин/1,73 м2, % | 9,7 | 44,4 | 25 | 0 |
Кластер 1 (n=36) состоял из пациентов как женского (61,1%), так и мужского (38,9%) пола. Доля пациентов младше 60 лет составила 48,4%, старше – 51,6%; медиана возраста – 61 [55; 65] лет. Дислипидемия наблюдалась у 77,8% пациентов. Частота ОО в кластере 1 составила 61% (медиана ИМТ – 30,9 [27, 5; 32, 9] кг/м2), тем не менее все исследуемые, вошедшие в данный кластер, имели АО, кроме того, среди них наблюдалась высокая частота эктопического ожирения (ЭО) – 80,5%. Варианты ЭО в кластере 1 представлены: перикардиальное ожирение (ПКО) – в 54,8%, периваскулярное ожирение (ПВО) – в 45,2%, паранефральное ожирение (ПНО) – в 35,5% случаев. Все пациенты в этом кластере имели АГ, при этом снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2 отмечено лишь у 9,7% пациентов (медиана СКФ – 76 [66; 83] мл/мин/1,73 м2).
Кластер 2 (n=14) состоял в большей степени из лиц мужского пола (71,4%) старше 60 лет (77,8%); медиана возраста – 68 [60; 71] год. Характеризовался высокой частотой дислипидемии (92,8%), ОО (92,8%) – медиана ИМТ 34,1 [30, 7; 37, 1] кг/м2 – и АО (85,7%). Все пациенты имели ЭО, а именно ПКО – 100%, ПВО – 88,9%, ПНО – 66,7%. У всех пациентов в кластере 2 диагностировали АГ, а также наблюдали достоверно более высокую частоту снижения СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 – 44,4% (медиана СКФ – 68 [57; 73] мл/мин/1,73 м2).
Кластер 3 (n=21) состоял из пациентов преимущественно женского пола (76,2%) старше 60 лет (87,5%); медиана возраста – 70 [67; 72] года. Дислипидемия наблюдалась у 76%. В этом кластере нет пациентов с ОО (медиана ИМТ – 23,6 [20, 4; 24, 4] кг/м2), однако наблюдалась высокая частота АО (81,3%) и ЭО (68,8%). Среди вариантов фенотипов ЭО ПКО составило 37,5%, ПВО – 62,5%. Следует отметить, что в кластере 3 нет пациентов с ПНО. Также наблюдали высокую распространенность АГ (90,1%), СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 снижалась у 25% пациентов (медиана СКФ – 71 [60, 75; 82] мл/мин/1,73 м2).
Кластер 4 (n=29) представлен пациентами среднего возраста (возраст >60 лет – 4,2%; медиана возраста – 47 [39; 52] года), преимущественно мужского пола (62,5%), которые имели низкую частоту ОО (27,6%) – медиана ИМТ 26,3 [24, 3; 28, 5] кг/м2. Такие пациенты имели преимущественно АО (75%), только 1/3 исследуемых – ЭО (35,5%). Наблюдалась низкая частота вариантов ЭО по сравнению с другими кластерами: ПКО – 8,3%, ПВО – 16,7%, ПНО – 20,8%. Кроме того, пациенты в этом кластере не имели АГ, СКФ не снижена <60 мл/мин/1,73 м2 (медиана СКФ – 84 [71, 5; 95, 25] мл/мин/1,73 м2), регистрировалась наиболее низкая частота дислипидемии (31%).
Мы изучили распределение частот генотипов и аллелей полиморфизмов rs1801282 гена PPARG, rs5186 гена AGTR1, rs699947 гена VEGF-A у пациентов во всех кластерах (табл. 3).
Таблица 3. Частота встречаемости генотипов и аллелей полиморфизмов генов у пациентов в исследуемых кластерах Table 3. Frequency of alleles and genotypes of the studied polymorphisms in patients in clusters | ||||||||
Ген, полиморфизм | Кластер 1 (n=36) | Кластер 2 (n=14) | Кластер 3 (n=21) | Кластер 4 (n=29) | χ2 | р | ||
PPARG rs1801282 | Генотипы, % | С/С | 66,7 | 57,1 | 66,7 | 79,3 | 20,6 | 0,002 |
С/G | 33,3 | 35,7 | 28,6 | 20,7 | ||||
G/G | 0 | 7,2 | 4,7 | 0 | ||||
Аллели, % | С | 83,3 | 75 | 80,9 | 89,7 | 7,85 | 0,05 | |
G | 16,7 | 25 | 19,1 | 10,3 | ||||
РХВ, р | 0,04 | 0,61 | 0,64 | 0,27 | ||||
AGTR1 rs5186 | Генотипы, % | A/A | 44,4 | 50 | 90,5 | 69 | 66,6 | <0,0001 |
A/C | 50 | 35,7 | 9,5 | 20,7 | ||||
C/C | 5,6 | 14,3 | 0 | 10,3 | ||||
Аллели, % | A | 69,4 | 67,9 | 95,2 | 79,3 | 27,2 | <0,0001 | |
C | 30,6 | 32,1 | 4,8 | 20,7 | ||||
РХВ, р | 0,05 | 0,07 | 0,64 | 0,0002 | ||||
VEGF-A rs699947 | Генотипы, % | A/A | 30,6 | 14,2 | 23,8 | 35,5 | 42,04 | <0,0001 |
A/C | 47,2 | 42,9 | 66,7 | 44,8 | ||||
C/C | 22, 2 | 42,9 | 9,5 | 19,7 | ||||
Аллели, % | A | 54,2 | 35,7 | 57,1 | 56,9 | 12,94 | 0,007 | |
C | 45,8 | 64,3 | 42,9 | 43,1 | ||||
РХВ, р | 0,67 | 0,5 | 0,0002 | 0,44 | ||||
Примечание. РХВ – равновесие Харди–Вайнберга. | ||||||||
Распределение генотипов ОНП rs1801282 гена PPARG статистически значимо (χ2=20,6; p=0,002) различалось в исследуемых кластерах. Наиболее часто гетерозиготный генотип C/G (35,7%), содержащий рисковый аллель G, а также гомозиготный генотип G/G (7,2%), встречался в кластере 2, который характеризовался самой высокой метаболической активностью, имел 100% частоту ЭО и АГ, а также высокую частоту ОО и АО по сравнению с другими кластерами. Кроме того, гомозиготный генотип G/G встречался в кластере 3 (4,7%), который состоял преимущественно из женщин пожилого возраста, имеющих АО и АГ. Разница в распределении аллелей полиморфизма rs1801282 гена PPARG не достигла статистической значимости, однако обращает на себя внимание, что частота рискового аллеля G самая высокая в кластере 2 (25%) по сравнению с другими кластерами.
Статистически значимые различия в распределении аллелей и генотипов в зависимости от принадлежности к кластеру обнаружены в отношении полиморфизма rs5186 гена AGTR1 (χ2=66,6; p<0,0001 для генотипов, χ2=27,2; p<0,0001 для аллелей). Гетерозиготный генотип A/C, содержащий рисковый аллель C, наиболее часто встречался в кластерах 1 и 2 (50 и 35,7% соответственно) по сравнению с кластерами 3 и 4 (9,5 и 20,7% соответственно). Общее распределение рискового аллеля С в изучаемых кластерах также характеризовалось высокой частотой в кластерах 1 и 2 (30,6 и 32,1% соответственно) по сравнению с кластерами 3 и 4 (4,8 и 20,7% соответственно).
В отношении полиморфного маркера rs699947 гена VEGF-A также получены статистически значимые различия в частоте генотипов и аллелей в зависимости от принадлежности к кластеру (χ2=42,04; p<0,0001 для генотипов, χ2=12,94; p<0,007 для аллелей). Мутантным аллелем этого полиморфного маркера считается аллель C. В нашем исследовании наибольшая частота гомозиготного аллеля C/C и рискового аллеля C отмечена в кластере 2 (42,9 и 64,3% соответственно).
Обсуждение
В настоящее время в рамках фенотипирования пациентов с ожирением имеется ряд работ с использованием кластерного анализа. Однако нельзя не отметить, что сравнение этих работ между собой затруднительно из-за отличий, связанных с этническими и региональными особенностями выборки, критериями включения и исключения пациентов, поставленными целями и особенностями статистического анализа данных. Кроме того, попытки кластеризации пациентов с ожирением достаточно распространены в контексте подкожного, но не висцерального распределения жировой ткани. Активно изучается влияние особенностей образа жизни, психосоциальных факторов и пищевого поведения. Например, в китайском исследовании Z. Lin и соавт. (2021 г.) на основании клинико-лабораторных характеристик (глюкоза, инсулин, мочевая кислота) выделены 4 метаболических кластера пациентов с ожирением: МЗО (44% пациентов), которое характеризуется относительно благоприятным метаболическим статусом с наименьшим количеством сопутствующих заболеваний; гиперметаболическое ожирение с гиперурикемией (33% пациентов); гиперметаболическое ожирение с гиперинсулинемией (8% пациентов), которое отличается сверхкомпенсированной секрецией инсулина и значительным увеличением частоты синдрома поликистозных яичников; гипометаболическое ожирение (15% пациентов), при котором наблюдается высокий уровень глюкозы, декомпенсированная секреция инсулина и наихудший метаболизм гликолипидов [26]. Интересно, что при изучении распределения жировой ткани в этом исследовании самая высокая частота АО наблюдалась в кластере гипометаболического ожирения, что указывает на высокую метаболическую активность висцеральных жировых депо [26]. Стоит отметить, что ни в одном из исследований кластеризацию не проводили на основании характеристик висцеральных и периорганных депо и их фенотипических проявлений, кроме того, не изучали частоту традиционных сердечно-сосудистых ФР в таких кластерах, а также их генетический профиль.
Мы попытались выделить фенотипические кластеры на основании не только демографических, антропометрических и метаболических показателей, но и характеристик ЭО. Таким образом, сформировано 4 кластера пациентов, различающихся по полу и возрасту, частоте ОО и сочетанию фенотипов ЭО и АО, а также с различной распространенностью таких ФР, как курение, дислипидемия и АГ (рис. 1).
Рис. 1. Кластеры пациентов с различными фенотипами ЭО и АО.
Fig. 1. Clusters of patients with different phenotypes of ectopic obesity and abdominal obesity.
Мы также изучили распределение частот генотипов и аллелей генов-кандидатов, выбранных в нашем исследовании (rs1801282 гена PPARG, rs5186 гена AGTR1, rs699947 гена VEGF-A), в выделенных фенотипических группах. Этот анализ проводился с целью оценки влияния рисковых генотипов и аллелей, а также сочетания нескольких рисковых генетических маркеров не на какой-то конкретный показатель (фенотип ЭО/АО), а на группу признаков, имеющихся в определенном кластере. Наша гипотеза подтверждена: продемонстрировано, что частота рисковых вариантов rs1801282 гена PPARG (аллель G и генотип C/G), rs5186 гена AGTR1 (аллель C и генотипы с включением этого аллеля), rs699947 гена VEGF-A (аллель C и генотипы с включением этого аллеля) выше в более метаболически активных кластерах 1 и 2 по сравнению с кластерами 3 и 4, причем самая высокая частота из всех наблюдалась в кластере 2, где все пациенты имели тот или иной фенотип ЭО, АГ и высокую частоту ОО и АО.
Выделенные нами кластеры расширяют представление о понятии метаболического синдрома. Складывается впечатление, что пациенты кластера 1 представляют собой его предстадию: это мужчины и женщины среднего возраста, у которых может быть ОО (61%), присутствует АО, дислипидемия и АГ и отсутствует поражение почек. При этом у них может присутствовать или отсутствовать ПКО, ПВО и ПНО. Оценка ЭО – принципиально новый подход в кластеризации, который потенциально может обусловить трансформацию кластера 1 в классический метаболический синдром – кластер 2, который представлен пожилыми мужчинами со всеми исследуемыми ФР, в том числе генетическими. Часть пациентов кластера 1, вероятно, женщины без ожирения, без ЭО (особенно ПНО) с возрастом могут трансформироваться в фенотип кластера 3, который может иметь более благоприятный прогноз. Интересно, что у пациенток кластера 3 низкая частота рискового аллеля С rs5186 гена AGTR1 при высокой частоте АГ. Это вновь демонстрирует, что полиморфизм этого гена может быть непосредственно связан не только с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой, но и с тканевой в жировой ткани. Низкая частота рискового аллеля С также может внести вклад в более благоприятный сердечно-сосудистый риск. Отдельный фенотип – пациенты кластера 4, молодые мужчины с АО. Этот кластер может по-новому отражать понятие МЗО и представляет огромный интерес в рамках проспективного наблюдения.
Заключение
На основании демографических, антропометрических, метаболических показателей, характеристик ЭО и АО мы выделили 4 кластера пациентов с ожирением, из которых кластер 2 отличался наиболее тяжелыми, а кластер 4 – наиболее благоприятными метаболическими и генетическими характеристиками. Ограничением нашего исследования было то, что данные получены на основании поперечного наблюдения с достаточно маленькой выборкой, и прогноз каждого кластера остается неизвестным. Это указывает на необходимость проведения проспективных исследований. Проверка выдвинутой нами гипотезы требует исследований с включением больших выборок и групп сравнения для разработки персонализированного подхода к профилактике и тактике ведения пациентов с ожирением в контексте кардиометаболического риска.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. В.И. Подзолков – курация данных, методология, управление проектом, ресурсы, надзор; А.Е. Брагина – концептуализация, курация данных, управление проектом, ресурсы, надзор, написание – рецензирование и редактирование; М.К. Васильченко – концептуализация, формальный анализ, исследование, методология, программное обеспечение, валидация, визуализация, написание – первоначальный вариант, редактирование; К.К. Осадчий – исследование, ресурсы, программное обеспечение; М.О. Пилипенко – исследование, ресурсы; В.А. Антоненко – исследование, ресурсы; Л.Б. Мансимова – исследование, ресурсы; Ю.Н. Родионова – концептуализация, формальный анализ, валидация, написание – первоначальный вариант, редактирование. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE.
Authors’ contribution. V.I. Podzolkov – data curation, methodology, project management, resources, supervision; A.E. Bragina – study concept, data curation, project management, resources, supervision, writing, review, and editing of the text; M.K. Vasilchenko – study concept, formal analysis, research, methodology, software, validation, visualization, writing of the initial draft, editing; K.K. Osadchiy – research, resources, software; M.O. Pilipenko – research, resources; V.A. Antonenko – research, resources; L.B. Mansimova – research, resources; Yu.N. Rodionova – study concept, formal analysis, validation, writing of the initial draft, editing. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом [ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский Университет), протокол №25-22, 08.12.2022]. Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee [Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Minutes No. 25-22, 08.12.2022]. Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
About the authors
Valery I. Podzolkov
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0758-5609
д-р мед. наук, проф., зав. каф. факультетской терапии №2 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Russian Federation, MoscowAnna E. Bragina
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Author for correspondence.
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2699-1610
д-р мед. наук, проф. каф. факультетской терапии №2 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Russian Federation, MoscowMaria K. Vasilchenko
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4831-7977
ассистент каф. факультетской терапии №2 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Russian Federation, MoscowKonstantin K. Osadchiy
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8202-4492
канд. мед. наук, доц. каф. факультетской терапии №2 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Réunion, MoscowMiroslava O. Pilipenko
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-7862-8366
студентка
Russian Federation, MoscowViktoriia A. Antonenko
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0007-7120-5301
студентка
Russian Federation, MoscowLamiya B. Mansimova
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0009-0003-4614-1626
студентка
Russian Federation, MoscowYulia N. Rodionova
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: anna.bragina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3461-6703
канд. мед. наук, доц. каф. факультетской терапии №2 Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского
Russian Federation, MoscowReferences
- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. Lancet. 2024;403(10431):1027-50. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02750-2
- World Health Organization. Obesity and overweight. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Accessed: 18.01.2025.
- Кобалава Ж.Д., Ставцева Ю.В., Троицкая Е.А., и др. Фенотипы артериального давления у пациентов молодого возраста с сахарным диабетом первого типа. Российский кардиологический журнал. 2020;25(3):49-56 [Kobalava ZD, Stavtseva YV, Troitskaya EA, et al. Blood pressure phenotypes in young patients with type 1 diabetes. Russ J Cardiol. 2020;25(3):49-56 (in Russian)]. doi: 10.15829/1560-4071-2020-3-3729
- Овчаренко С.И. Фенотипы больных хронической обструктивной болезнью легких и исследование ECLIPSE: первые результаты. Пульмонология. 2011;(3):113-7 [Ovcharenko SI. Phenotypes of chronic obstructive pulmonary disease and the ECLIPSE study: preliminary results. Pulmonologiya. 2011;(3):113-7 (in Russian)]. doi: 10.18093/0869-0189-2011-0-3-113-117
- Bel EH. Clinical phenotypes of asthma. Curr Opin Pulm Med. 2004;10(1):44-50. doi: 10.1097/00063198-200401000-00008
- Драгомирецкая Н.А., Толмачева А.В., Иванников А.А., и др. Фенотипические кластеры и профиль биомаркеров у больных с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной и умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка. Терапевтический архив. 2024;96(12):1137-43 [Dragomiretskaya NA, Tolmacheva AV, Ivannikov AA, et al. Phenotypic clusters and biomarkers profile in patients with chronic heart failure with preserved and mildly reduced left ventricular ejection fraction. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2024;96(12):1137-43 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2024.12.203003
- Schulze MB. Metabolic health in normal-weight and obese individuals. Diabetologia. 2019;62(4):558-66. doi: 10.1007/S00125-018-4787-8
- Kramer CK, Zinman B, Retnakaran R. Are metabolically healthy overweight and obesity benign conditions? A systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2013;159(11):758-69. doi: 10.7326/0003-4819-159-11-201312030-00008
- Eckel N, Li Y, Kuxhaus O, et al. Transition from metabolic healthy to unhealthy phenotypes and association with cardiovascular disease risk across BMI categories in 90 257 women (the Nurses' Health Study): 30 year follow-up from a prospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(9):714-24. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30137-2
- Bray GA, Heisel WE, Afshin A, et al. The Science of Obesity Management: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev. 2018;39(2):79-132. doi: 10.1210/er.2017-00253
- Отт А.В., Чумакова Г.А. Эпикардиальное ожирение как один из основных критериев метаболически тучного фенотипа ожирения и предикторов субклинического атеросклероза. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2018;7(1):21-8 [Ott AV, Chumakova GA. Epicardial obesity as one of the basic criteria for metabolically unhealthy obesity phenotype and the predictor of subclinical atherosclerosis. Complex Issues of Cardiovascular Diseases. 2018;7(1):21-8 (in Russian)]. doi: 10.17802/2306-1278-2018-7-1-21-28
- Heid IM, Jackson AU, Randall JC, et al. Meta-analysis identifies 13 new loci associated with waist-hip ratio and reveals sexual dimorphism in the genetic basis of fat distribution. Nat Genet. 2010;42(11):949-60. doi: 10.1038/ng.685
- Cho YS, Chen CH, Hu C, et al. Meta-analysis of genome-wide association studies identifies eight new loci for type 2 diabetes in east Asians. Nat Genet. 2011;44(1):67-72. doi: 10.1038/ng.1019
- Lindgren CM, Heid IM, Randall JC, et al. Genome-wide association scan meta-analysis identifies three Loci influencing adiposity and fat distribution. PLoS Genet. 2009;5(6):e1000508. doi: 10.1371/journal.pgen.1000508
- Fox CS, White CC, Lohman K, et al. Genome-wide association of pericardial fat identifies a unique locus for ectopic fat. PLoS Genet. 2012;8(5):e1002705. doi: 10.1371/journal.pgen.1002705
- Wagner R, Machicao F, Fritsche A, et al. The genetic influence on body fat distribution. Drug Discov Today Dis Mech. 2013;10(1-2):e5-13. doi: 10.1016/J.DDMEC.2013.05.003
- Дедов И.И., Шестакова М.В., Мельниченко Г.А., и др. Междисциплинарные клинические рекомендации «Лечение ожирения и коморбидных заболеваний». Ожирение и метаболизм. 2021;18(1):5-99 [Dedov II, Shestakova MV, Melnichenko GA, et al. Interdisciplinary Clinical Practice Guidelines "Management of Obesity and its Comorbidities". Obesity and Metabolism. 2021;18(1):5-99 (in Russian)]. doi: 10.14341/OMET12714-9827
- Подзолков В.И., Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., и др. Эктопическая жировая ткань: частота и клинические характеристики фенотипов ожирения у пациентов. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(6):50-6 [Podzolkov VI, Bragina AE, Rodionova YN, et al. Ectopic adipose tissue: frequency and clinical characteristics of obesity phenotypes in patients. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2024;23(6):50-6 (in Russian)]. doi: 10.15829/1728-8800-2024-3980
- Подзолков В.И., Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., и др. Эктопическая жировая ткань: связь фенотипов ожирения с интегральными метаболическими индексами ожирения. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2024;20(3):285-93 [Podzolkov VI, Bragina A, Rodionova YN, et al. Ectopic adipose tissue: association of obesity phenotypes with integral metabolic indices of obesity. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2024;20(3):285-93 (in Russian)]. doi: 10.20996/1819-6446-2024-3035
- Goldenberg L, Saliba W, Hayeq H, et al. The impact of abdominal fat on abdominal aorta calcification measured on non-enhanced CT. Medicine (Baltimore). 2018;97(49):e13233. doi: 10.1097/MD.0000000000013233
- Подзолков В.И., Брагина А.Е., Осадчий К.К., и др. Эктопическое ожирение у пациентов без клинически значимых сердечно-сосудистых заболеваний: ориентировочные нормативы, частота и клинические характеристики. Терапевтический архив. 2022;94(9):1072-7 [Podzolkov VI, Bragina AE, Osadchiy KK, et al. Ectopic obesity in patients without manifested cardiovascular disease: regulations, frequency and clinical characteristics. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2022;94(9):1072-7 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2022.09.201847
- Bragina АЕ, Osadchiy KK, Rodionova JN, et al. Pararenal Fat and Renal Dysfunction in Patients without Significant Cardiovascular Disease. Am J Nephrol. 2022;53(5):416-22. doi: 10.1159/000522311
- Подзолков В.И., Брагина А.Е., Осадчий К.К., и др. Паранефральная жировая ткань: частота паранефрального ожирения и связь с антропометрическими индексами ожирения. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2022;18(5):516-21 [Podzolkov VI, Bragina AE, Osadchiy KK, et al. Pararenal Fat Tissue: Rate of Pararenal Obesity and Relation with Anthropometric Indices of Obesity. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2022;18(5):516-21 (in Russian)]. doi: 10.20996/1819-6446-2022-09-04
- Подзолков В.И., Брагина А.Е., Осадчий К.К., и др. Взаимосвязь объема периваскулярной жировой ткани и состояния сосудистой стенки. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(7):83-90 [Podzolkov VI, Bragina AE, Osadchiy KK, et al. Relationship between the volume of perivascular adipose tissue and the vascular wall lesion. Cardiovascular Therapy and Prevention (Russian Federation). 2021;20(7):83-90 (in Russian)]. doi: 10.15829/1728-8800-2021-2993
- Fairley S, Lowy-Gallego E, Perry E, Flicek P. The International Genome Sample Resource (IGSR) collection of open human genomic variation resources. Nucleic Acids Res. 2020;48(D1):D941-7. doi: 10.1093/nar/gkz836
- Lin Z, Feng W, Liu Y, et al. Machine Learning to Identify Metabolic Subtypes of Obesity: A Multi-Center Study. Front Endocrinol (Lausanne). 2021;12:713592.
Supplementary files