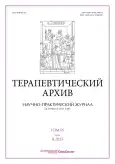Serological markers as predictors of the severity of gastric mucosal atrophy in autoimmune and Helicobacter рylori-associated gastritis
- Authors: Chebotareva M.V.1,2, Nikolskaya K.A.1,2, Andreev D.N.3, Dorofeev A.S.1, Khomeriki S.G.1, Tsapkova L.A.1, Parfenchikova E.V.1, Veliev A.M.3, Spasenov A.Y.1, Voynovan I.N.1, Bordin D.S.1,3,4
-
Affiliations:
- Loginov Moscow Clinical Scientific Center
- Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management
- Russian University of Medicine
- Tver State Medical University
- Issue: Vol 97, No 8 (2025): Treatment issues
- Pages: 651-659
- Section: Original articles
- Submitted: 02.06.2025
- Accepted: 02.06.2025
- Published: 28.08.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/681970
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.08.203343
- ID: 681970
Cite item
Full Text
Abstract
Aim. To evaluate the possibility of using serum markers of atrophy (pepsinogens – PG I and II) to form high-risk groups for gastric cancer (Operative Link for Gastritis Assessment – OLGA stage III–IV) depending on the etiology of gastritis.
Materials and methods. A total of 237 (56 men and 181 women) patients were examined. All patients underwent a 13C-urea breath test, a blood test for GastroPanel (PG I, PG II, gastrin-17, antibodies to Helicobacter pylori immunoglobulin G), a blood test for antibodies to gastric parietal cells. All patients underwent esophagogastroduodenoscopy with a biopsy of the gastric mucosa from 5 standard points according to the Sydney system and a histomorphological study according to the OLGA system, as well as a biopsy to detect H. pylori infection using the polymerase chain reaction. The patients were divided into 3 groups depending on the etiology of gastritis: Group 1 included 55 patients with chronic gastritis, autoimmune gastritis and associated with H. pylori gastritis (AIG+HP+); Group 2 – 47 patients with AIG and negative tests for H. pylori infection (AIG+HP-); Group 3 – 135 patients with chronic gastritis associated with H. pylori and negative markers of AIG (AIG-HP+).
Results. The analysis showed that in patients with AIG (group 2), the most reliable serological markers of atrophy predicted severe atrophy (OLGA stage III–IV): when the ratio PG I/PG II was ≤ 3, it was detected in 70.21% of cases, and when PG I decreased to ≤ 30 μg/L, it was found in 68.08%. In group 1, stages III–IV according to OLGA were diagnosed in 20% of cases with PG I/PG II indicators ≤ 3; and in 18.18% with a decrease in PG I ≤ 30 μg/L. When analyzing the diagnostic accuracy of GastroPanel biomarkers in identifying severe atrophy (OLGA stages III–IV) in the total sample of patients (all 3 groups), it was possible to achieve cut-off indicators as close as possible to the reference values while maintaining a relatively high sensitivity and specificity – 75.81% and 81.50% for PG I ≤ 30 μg/L and 85.48% and 64.50% for PG I/PG II ≤ 3, respectively. The optimal cut-off in the study population for the PG I indicator was < 22.5 μg/L (sensitivity – 72.58%, specificity – 88.00%), and for the PG I/PG II ratio ≤ 2 (sensitivity – 80.65%, specificity – 78.50%).
Conclusion. Serum pepsinogens can be used in the Moscow population as a non-invasive marker of gastric mucosa atrophy for the formation of high-risk patient groups for gastric cancer requiring endoscopic examination.
Full Text
Список сокращений
13С-УДТ – 13С-уреазный дыхательный тест
АИГ – аутоиммунный гастрит
АтГ – атрофический гастрит
ДИ – доверительный интервал
ПГ – пепсиноген
ПЦР – полимеразная цепная реакция
РЖ – рак желудка
СОЖ – слизистая оболочка желудка
СПГ – сывороточный пепсиноген
ХГ – хронический гастрит
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия
Ig – иммуноглобулин
Введение
Хронический гастрит (ХГ) рассматривается как предраковое состояние, при котором риск развития рака желудка (РЖ) зависит от этиологии и стадии заболевания [1]. Для определения стадии гастрита по протоколу OLGA (оперативной системы оценки гастритов – Operative Link for Gastritis Assessment) при проведении эндоскопического исследования необходимо взять не менее 2 биоптатов из антрального отдела и 2 биоптатов – из тела желудка. Пациентам с высоким риском развития рака (III–IV стадия по системе OLGA) рекомендовано динамическое эндоскопическое наблюдение с интервалом 1 раз в 3 года. Поскольку эндоскопический скрининг экономически затратен, для формирования групп высокого риска развития РЖ предложена предварительная оценка неинвазивных маркеров атрофии слизистой оболочки желудка (СОЖ) – уровня сывороточного пепсиногена I (ПГ I) и соотношения ПГ I/ПГ II. Наиболее частыми причинами развития атрофического гастрита (АтГ) являются инфекция H. pylori и аутоиммунный гастрит (АИГ), а также их сочетание.
В настоящее время РЖ занимает 5-е место среди всех онкологических заболеваний и 4-е – среди причин смертности от рака в мире. В 2023 г. в Российской Федерации зарегистрировано 19 389 случаев РЖ, это соответствует 5-му месту в структуре онкологических заболеваний: среди женщин доля данной патологии составила 4,9%, а среди мужчин – 6,3%. За этот же период болезнь унесла жизни 13 605 человек. По уровню смертности в России среди летальных исходов от всех онкологических заболеваний РЖ занимает 2-е место у мужчин (9,4%) и 4-е место – у женщин (7,4%) [2]. В связи с тенденцией к изменению структуры населения за счет прироста лиц пожилого возраста прогнозируется, что заболеваемость и смертность от РЖ в будущем возрастет во всем мире или, возможно, только в Европе. В большинстве случаев пациенты обращаются за медицинской помощью при наличии симптомов на поздних стадиях РЖ, что подчеркивает важность ранней диагностики до возникновения симптомов. Однако такой метод диагностики, как эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), остается дорогостоящим, к тому же он носит инвазивный характер. Именно поэтому особенно важно проводить предварительный отбор населения с формированием групп высокого риска развития РЖ для проведения эндоскопического наблюдения, что может стать экономически выгодным для системы здравоохранения [3].
Двумя основными этиологическими факторами АтГ являются инфекция Helicobacter pylori и АИГ. Поскольку проведение эндоскопического скрининга экономически затратно, серологические методы диагностики могут быть рассмотрены как неинвазивные маркеры атрофии СОЖ. На основе их результатов можно выделить лиц группы риска, которым показано проведение эндоскопического исследования для оценки стадии атрофии и этиологии гастрита [4].
Сывороточные ПГ (СПГ) отражают не только функциональное, но и морфологическое состояние СОЖ. Пониженные показатели СПГ (ПГ I < 30 мкг/л и/или соотношение ПГ I/ПГ II < 3) могут помочь в выявлении поздних стадий атрофии СОЖ, что особенно важно для формирования групп высокого риска развития РЖ [2].
Главная цель скрининга РЖ – выявление этого заболевания на ранней стадии, что повышает эффективность лечения и способствует снижению смертности от РЖ [5]. Снижение заболеваемости и смертности от РЖ может быть достигнуто путем комплексного подхода, включающего как первичную профилактику (своевременное выявление и эрадикацию Н. pylori), так и вторичную профилактику. Последняя предполагает проведение эндоскопического скрининга для выявления раннего РЖ, а также формирование групп пациентов высокого риска развития РЖ (с морфологически верифицированной тяжелой атрофией СОЖ) с последующим динамическим эндоскопическим наблюдением [2, 6].
Цель исследования – оценить возможность использования сывороточных маркеров атрофии СОЖ (ПГ I и ПГ II) для формирования групп высокого риска развития РЖ (OLGA III–IV стадии) в зависимости от этиологии гастрита.
Материалы и методы
Проведено обследование 237 пациентов (56 мужчин и 181 женщины). Выборка формировалась в ГБУЗ «МКНЦ им. А.С. Логинова» в ходе «Эпидемиологического исследования распространенности инфекции Helicobacter pylori в г. Москве» (соглашение №0903-1/22 от 21.03.2022). Все обследуемые лица соответствовали следующим критериям включения:
- возраст от 18 до 80 лет;
- подписанная форма информированного согласия.
Критерии невключения:
- прием антибактериальных и висмутсодержащих препаратов в течение 30 дней, ингибиторов протонной помпы – в течение 14 дней;
- ранее проведенная эрадикация инфекции Н. pylori;
- гастрэктомия или частичная резекции желудка в анамнезе;
- беременность, период лактации.
Всем пациентам выполнен 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ), комплексный анализ крови GastroPanel (ПГ I, ПГ II, соотношение ПГ I/ПГ II, гастрин-17, антитела к H. pylori – иммуноглобулин – Ig класса G), анализ крови на антитела к париетальным клеткам желудка, проведены ЭГДС c биопсией из 5 стандартных точек по Сиднейской системе с последующим морфологическим исследованием биоптатов и оценкой по системе OLGA, а также биопсия из антрального отдела желудка для выявления инфекции H. pylori методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Таким образом, для выявления или исключения инфекции Н. pylori у каждого больного мы применяли 4 метода: 13С-УДТ, морфологическое исследование и ПЦР биоптатов СОЖ, обнаружение антител к H. pylori IgG. Наличие инфекции считалось подтвержденным, если как минимум один из методов ее диагностики был положительным. При этом критерием диагноза АИГ служило выявление антител к париетальным клеткам желудка.
С учетом полученных данных пациенты разделены на 3 группы в зависимости от этиологии ХГ:
- 1-я группа включала 55 больных ХГ сочетанной этиологии – АИГ и H. pylori-ассоциированным (АИГ+НР+), из них 11 мужчин с медианой возраста 53 (48,0–64,5) года и 44 женщины – с медианой возраста 55 (45,75–62,62) лет;
- 2-я группа – 47 пациентов с АИГ и отрицательными тестами на инфекцию H. pylori (АИГ+НР-), из них 4 мужчины с медианой возраста 61 (50,0–71,75) год и 43 женщины – с медианой возраста 59 (47,0–65,0) лет;
- 3-я группа – 135 пациентов с ХГ, ассоциированным с H. pylori, и отрицательными маркерами АИГ (АИГ-НР+), из них 41 мужчина с медианой возраста 51 (40,0–57,0) год и 94 женщины – с медианой возраста 49,5 (39,0–62,75) года.
Сравнительная характеристика исследуемых групп представлена в табл. 1.
Таблица 1. Общая характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. General characteristics of the study patients
Параметр | Группа | ||
1-я АИГ+НР+ (n = 55) | 2-я АИГ+НР- (n = 47) | 3-я АИГ-НР+ (n = 135) | |
Женский пол | |||
число пациентов, абс. | 44 | 43 | 94 |
медиана возраста, лет | 55 (45,75–62,25) | 59 (47,0–65,0) | 49,5 (39,0–62,75) |
Мужской пол | |||
число пациентов, абс. | 11 | 4 | 41 |
медиана возраста, лет | 53 (48,0–64,5) | 61 (50,0–71,75) | 51 (40,0–57,0) |
Совокупности количественных показателей, распределение которых отличалось от нормального, описывали посредством значений медианы (Q2), нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Для визуализации соответствующих одномерных распределений применяли диаграмму размаха. Для сравнения независимых выборок, распределение значений которых отличалось от нормального, использовали U-критерий Манна–Уитни. Оценку диагностической значимости количественных признаков при прогнозировании вероятности наступления исследуемого исхода выполняли с использованием метода анализа площади под кривой (Receiver Operating Characteristic – Area Under Curve – ROC-AUC). Прогностические свойства исследуемых характеристик, представленных в виде дискриминантных функций, анализировали с помощью показателей чувствительности и специфичности. Диагностическую эффективность характеристик определяли как долю верно предсказанных величин из общего числа проанализированных наблюдений. Для описания количественных показателей, имеющих нормальное распределение, производили расчет средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), соответствующих границам 95% доверительного интервала (ДИ).
Результаты
По результатам обследования в соответствии с алгоритмом, представленным на рис. 1, в исследование включены 237 пациентов с последующим формированием 3 групп из этой когорты: АИГ+НР+, АИГ+НР-, АИГ-НР+.
Рис. 1. Дизайн исследования.
Fig. 1. Study design.
Проведен анализ пациентов в зависимости от этиологии гастрита с учетом стадий атрофии СОЖ по системе OLGA 0–I–II и III–IV на основании средних значений соотношения ПГ I/ПГ II и ПГ I. Полученные результаты выявили следующие закономерности.
У пациентов с подтвержденной инфекцией Н. рylori (1 и 3-я группы) отмечено статистически значимое снижение медианы среднего уровня соотношения ПГ I/ПГ II при нарастании морфологически верифицированной стадии атрофии: в 1-й группе – 4,0 (3,0–5,0) для стадий атрофии по системе OLGA 0–II и 1,0 (1,0–1,6) – для тяжелой атрофии (OLGA III–IV); в 3-й группе – 5,0 (4,0–6,0) и 3,0 (2,0–5,0) – для аналогичных стадий по системе OLGA соответственно (табл. 2, рис. 2). Эти различия, вероятно, связаны с преимущественным вовлечением антрального отдела желудка при инфекции Н. pylori, в отличие от АИГ, при котором атрофия ограничена телом желудка.
Таблица 2. Распределение стадии атрофии в зависимости от среднего уровня отношения ПГI/ПГ II
Table 2. Distribution of the atrophy stage depending on the average PG I/PG II ratio
ПГ I/ПГ II | Q2 (Q1–Q3) OLGA | p | |
0–I–II | III–IV | ||
АИГ+НР+ (n = 55) | 4,0 (3,0–5,0) | 1,0 (1,0–1,6) | < 0,01 |
АИГ+НР- (n = 47) | 1,0 (1,0–2,0) | 1,0 (0,0–2,0) | 0,247 |
АИГ-НР+ (n = 135) | 5,0 (4,0–6,0) | 3,0 (2,0–5,0) | 0,015 |
Рис. 2. Статистически значимая медиана между средним уровнем соотношения ПГ I/ПГ II в зависимости от стадии атрофии в группах АИГ+НР+ (а) и АИГ-НР+ (b).
Fig. 2. A statistically significant median between the average PG I/PG II ratio depending on the stage of atrophy in the AIG+HP+ (a) and AIG-HP+ (b) groups.
Во 2-й группе медиана среднего уровня соотношения ПГ I/ПГ II была низкой вне зависимости от морфологической стадии по системе OLGA.
Медиана значений ПГ I статистически значимо снижалась при нарастании стадии атрофии по системе OLGA в 1-й группе: с 68,94 (47,21–98,98) мкг/л при OLGA 0–II до 10,23 (4,43–29,4) мкг/л при OLGA III–IV. В 2 и 3-й группах не выявлено статистически значимого изменения медианы уровня ПГ I (табл. 3, рис. 3). В 3-й группе (ХГ, ассоциированный с Н. рylori) это может быть обусловлено тем, что уровень соотношения ПГ I/ПГ II является более чувствительным маркером атрофии СОЖ в сравнении с ПГ I, особенно на поздних стадиях атрофии.
Таблица 3. Распределение стадии атрофии в зависимости от среднего уровня ПГ I, мкг/л
Table 3. Distribution of the atrophy stage depending on the average PG I level, μg/L
Группа | ПГ I | p | |
Q2 (Q1–Q3) OLGA | |||
0–I–II | III–IV | ||
АИГ+НР+ (n = 55) | 68,94 (47,21–98,98) | 10,23 (4,43–29,4) | < 0,01 |
АИГ+НР- (n = 47) | 9,379 (4,970–17,86) | 8,58 (3,56–13,06) | 0,658 |
АИГ-НР+ (n = 135) | 77,66 (61,96–98,18) | 103,9 (58,96–140,6) | 0,271 |
Рис. 3. Статистически значимая медиана между средним уровнем ПГ I (мкг/л) в зависимости от стадии атрофии в 1-й группе (АИГ+НР+).
Fig. 3. A statistically significant median between the average PG I level (μg/L) depending on the stage of atrophy in group 1 (AIG+HP+).
Проведена оценка распределения стадии атрофии СОЖ по системе OLGA (0–I–II и III–IV) у пациентов 3 групп в зависимости от уровня соотношения ПГ I/ПГ II (табл. 4) и ПГ I (табл. 5), а также их сочетания (табл. 6).
Таблица 4. Показатели отношения ПГ I/ПГ II в зависимости от стадии атрофии по системе OLGA у пациентов 3 групп
Table 4. PG I/PG II ratio depending on the stage of atrophy according to the OLGA system in patients of three groups
Группа, абс. (%) | ПГ I/ПГ II | |||
≤ 3 | > 3 | |||
стадия OLGA | ||||
0–II | III–IV | 0–II | III–IV | |
АИГ+НР+ (n = 55) | 18 (32,72) | 11 (20,0) | 24 (43,63) | 2 (3,63) |
АИГ+НР- (n = 47) | 12 (25,53) | 33 (70,21) | 2 (4,25) | 0 (0,0) |
АИГ-НР+ (n = 135) | 29 (21,48) | 7 (5,18) | 93 (68,88) | 6 (4,44) |
Таблица 5. Показатели ПГ I в зависимости от стадии атрофии по системе OLGA у пациентов 3 групп
Table 5. PG I levels depending on the stage of atrophy according to the OLGA system in patients of three groups
Группа, абс. (%) | ПГ I, мкг/л | |||
≤ 30 | > 30 | |||
стадия OLGA | ||||
0–II | III–IV | 0–II | III–IV | |
АИГ+НР+ (n = 55) | 4 (7,27) | 10 (18,18) | 38 (69,09) | 3 (5,45) |
АИГ+НР- (n = 47) | 14 (29,78) | 32 (68,08) | 0 (0,0) | 1 (2,12) |
АИГ-НР+ (n = 135) | 4 (2,96) | 2 (1,48) | 118 (87,40%) | 11 (8,14) |
Таблица 6. Показатели сочетания соотношения ПГ I/ПГ II и ПГ I в зависимости от стадии атрофии по системе OLGA у пациентов 3 групп
Table 6. PG I/PG II ratio and PG I level depending on the stage of atrophy according to the OLGA system in patients of three groups
Группа, абс. (%) | ПГ I/ПГ II ≤ 3 и ПГ I ≤ 30, мкг/л | ПГ I/ПГ II > 3 и ПГ I > 30, мкг/л | ||
стадия OLGA | ||||
0–II | III–IV | 0–II | III–IV | |
АИГ+НР+ (n = 55) | 4 (7,27) | 10 (18,18) | 38 (69,09) | 3 (5,45) |
АИГ+НР- (n = 47) | 12 (25,53) | 32 (68,08) | 2 (4,25) | 1 (2,12) |
АИГ-НР+ (n = 135) | 4 (2,96) | 2 (1,48) | 118 (87,4) | 11 (8,14) |
Анализ показал, что в 1-й группе (АИГ+НР+) III–IV стадия по системе OLGA диагностирована в 20% случаев при показателях ПГ I/ПГ II ≤ 3 и в 18,18% – при снижении уровня ПГ I ≤ 30 мкг/л. При учете сочетания ПГ I/ПГ II ≤ 3 и ПГ I ≤ 30 мкг/л – в 18,18% случаев.
У больных АИГ (2-й группы) серологические маркеры атрофии наиболее надежно предсказывали тяжелую атрофию (OLGA III–IV стадии): при соотношении ПГ I/ПГ II ≤ 3 она выявлялась в 70,21% случаев, при снижении ПГ I ≤ 30 мкг/л – в 68,08%.
У больных ХГ, ассоциированным с Н. pylori (3-й группы), в большинстве случаев уровни ПГ I и ПГ II находились в пределах референсных значений, при этом морфологически выявлялась атрофия 0–I–II стадии по системе OLGA. Вероятно, это связано с более низкой медианой возраста пациентов – 49,5 (39,0–62,75) года у женщин и 51 (40,0–57,0) год – у мужчин в сравнении с 1 и 2-й группами. Коэффициент корреляция Спирмена между возрастом и стадиями атрофии по OLGA в 3-й группе составил 0,4 (p < 0,01).
Табл. 7–9 отображают диагностическую чувствительность и специфичность биомаркеров GastroPanel (ПГ I ≤ 30 мкг/л, соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3) относительно показателей при III–IV стадии по системе OLGA и в зависимости от этиологии гастрита.
Таблица 7. Показатели чувствительности и специфичности GastroPanel относительно OLGA III–IV стадии в 1-й группе (АИГ+НР+)
Table 7. Sensitivity and specificity of the GastroPanel versus OLGA stage III–IV in group 1 (AIG+HP+)
Показатель | ПГ I | ПГ I/ПГ II |
Cut-off тест-системы | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 30 | ≤ 3 |
Чувствительность, % | 74,42 | 84,62 |
Специфичность, % | 92,68 | 57,14 |
Оптимальные cut-off в исследуемой популяции | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 29,4 | ≤ 1,6 |
Чувствительность, % | 76,92 | 76,92 |
Специфичность, % | 90,48 | 92,86 |
Примечание. Здесь и далее в табл. 8–10: cut-off – референсные показатели порогового значения.
Таблица 8. Показатели чувствительности и специфичности GastroPanel относительно OLGA III–IV стадии во 2-й группе (АИГ+НР-)
Table 8. Sensitivity and specificity of the GastroPanel versus OLGA stage III–IV in group 2 (AIG+HP-)
Показатель | ПГ I | ПГ I/ПГ II |
Cut-off тест-системы | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 30 | ≤ 3 |
Чувствительность, % | 96,97 | 100,0 |
Специфичность, % | 0,0 | 14,29 |
Оптимальные cut-off в исследуемой популяции | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 11,57 | ≤ 2 |
Чувствительность, % | 69,70 | 96,97 |
Специфичность, % | 50,00 | 21,43 |
Таблица 9. Показатели чувствительности и специфичности GastroPanel относительно OLGA III–IV стадии в 3-й группе (АИГ-НР+)
Table 9. Sensitivity and specificity of the GastroPanel versus OLGA stage III–IV in group 3 (AIG-HP+)
Показатель | ПГ I | ПГ I/ПГ II |
Cut-off тест-системы | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 30 | ≤ 3 |
Чувствительность, % | 33,33 | 53,85 |
Специфичность, % | 91,47 | 76,23 |
Оптимальные cut-off в исследуемой популяции | ||
Cut-off, мкг/л | < 98,26 | ≤ 4 |
Чувствительность, % | 61,54 | 69,23 |
Специфичность, % | 75,41 | 61,48 |
В 1-й группе (АИГ+НР+) получены следующие данные: ПГ I ≤ 30 мкг/л (чувствительность – 74,42%, специфичность – 92,68%), соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3 (чувствительность – 84,62%, специфичность – 57,14%). Оптимальный показатель порогового значения в исследуемой популяции для показателя ПГ I составил ≤ 29,4 мкг/л (чувствительность – 76,92%, специфичность – 90,48%), соотношения ПГ I/ПГ II ≤ 3, а именно ≤ 1,6 (чувствительность – 76,92%, специфичность – 92,86%).
Во 2-й группе (АИГ+НР-) выявлены показатели: ПГ I ≤ 30 мкг/л (чувствительность – 96,97%, специфичность – 0,0%, т.е. значение соответствующей метрики не использовалось при интерпретации результатов), соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3 (чувствительность – 100,0%, специфичность – 14,29%). Полученные данные могут быть обусловлены вовлечением в патологический процесс тела желудка и, как следствие, снижением или отсутствием выработки ПГ I. Оптимальный показатель порогового значения в исследуемой популяции для показателя ПГ I составил ≤ 11,57 мкг/л (чувствительность – 69,7%, специфичность – 50,0%), соотношения ПГ I/ПГ II ≤ 2 (чувствительность – 96,97%, специфичность – 21,43%).
В группе 3-й группе (АИГ-НР+) показатели чувствительности и специфичности были наиболее низкими: ПГ I ≤ 30 мкг/л (чувствительность – 33,33%, специфичность – 91,47%), соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3 (чувствительность – 53,85%, специфичность – 76,23%), что может быть связано с изолированным поражением антрального отдела желудка. При этом оптимальный показатель порогового значения в исследуемой популяции для показателя ПГ I составил < 98,26 мкг/л (чувствительность – 61,54%, специфичность – 75,41%), соотношения ПГ I/ПГ II ≤ 4 (чувствительность – 69,23%, специфичность – 61,48%).
При анализе диагностической точности биомаркеров GastroPanel в общей выборке пациентов (всех 3 групп) удалось добиться максимально приближенного к референсным показателям порогового значения при сохранении относительно высокой чувствительности и специфичности – 75,81 и 81,5% для ПГ I ≤ 30 мкг/л и 85,48 и 64,5% – для ПГ I/ПГ II ≤ 3 соответственно (табл. 10). При этом оптимальный показатель порогового значения в исследуемой популяции для показателя ПГ I составил < 22,5 мкг/л (чувствительность – 72,58%, специфичность – 88,0%), а соотношения ПГ I/ПГ II – ≤ 2 (чувствительность – 80,65%, специфичность – 78,5%).
Таблица 10. Показатели чувствительности и специфичности GastroPanel относительно OLGA III–IV стадии во всей выборке пациентов
Table 10. Sensitivity and specificity of the GastroPanel versus OLGA stage III–IV in the overall patient population
Показатель | ПГ I | ПГ I/ПГ II |
Cut-off тест-системы | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 30 | ≤ 3 |
Чувствительность, % | 75,81 | 85,48 |
Специфичность, % | 81,5 | 64,5 |
Оптимальные cut-off в исследуемой популяции | ||
Cut-off, мкг/л | ≤ 22,52 | ≤ 2 |
Чувствительность, % | 72,58 | 80,65 |
Специфичность, % | 88,0 | 78,5 |
На рис. 4 показана ROC-кривая для ПГ I (a) и ПГ I/ПГ II (b) относительно OLGA III–IV стадии. Выявлена высокая связь между ПГ I и тяжестью атрофии (AUC = 0,81) и отношением ПГ I/ПГ II (AUC = 0,85).
Рис. 4. Соотношение ПГ I (a) и ПГ I/ПГ II (b) при выявлении подтвержденного биопсией тяжелого АтГ в ROC-анализе.
Fig. 4. The ratio of PG I (a) and PG I/PG II (b) for the detection of biopsy-confirmed severe atrophic gastritis in the ROC analysis.
Обсуждение
АтГ – заболевание, при котором происходит потеря желудочных желез с метаплазией или без нее в условиях хронического воспаления. Основными причинами возникновения АтГ являются инфекция H. pylori и АИГ [7, 8]. По оценке риска прогрессирования АтГ при моделировании прогноза заболеваемости, число случаев РЖ увеличится в течение 20 лет на 62%, если сохранятся текущие эпидемиологические тенденции [9]. РЖ развивается преимущественно на фоне предраковых поражений желудка, таких как атрофия, кишечная метаплазия и дисплазия СОЖ. Этот патологический процесс – каскад желудочного канцерогенеза – описан P. Correa. Поэтому при диагностике ХГ необходимо установить этиологию и стратифицировать риск развития РЖ [2]. Связь между ХГ и развитием РЖ давно установлена. Согласно консенсусу Маастихт VI примерно 90% случаев РЖ обусловлены инфекцией H. рylori. В 1994 г. Всемирная организация здравоохранения классифицировала инфекцию H. pylori как канцероген 1-го типа [2]. АИГ – еще один изучаемый фактор риска развития РЖ. В последние годы его роль в развитии аденокарциномы желудка пересматривается, и теперь АИГ в большей степени ассоциируется с риском развития нейроэндокринных опухолей желудка 1-го типа [10]. АтГ вне зависимости от этиологии должен быть подтвержден гистологически [8, 11].
Эндоскопическое исследование с морфологической верификацией стадии атрофии для скрининга ранних предраковых изменений СОЖ является высокоэффективным, однако дорогостоящим методом для системы здравоохранения. В связи с этим перед исследователями стоит задача поиска более доступных и эффективных методов диагностики предраковых изменений СОЖ с последующим формированием когорт пациентов, направляемых для проведения эндоскопического исследования для более точного формирования групп высокого риска развития РЖ на основании морфологической оценки. Одним из таких методов, активно обсуждаемых в медицинском сообществе, является исследование СПГ как неинвазивного маркера атрофии СОЖ. Несмотря на проводимые исследования, вопрос о возможности широкого использования СПГ остается открытым. Опубликованные данные противоречивы и определяются особенностями изучаемых популяций.
В ряде исследований показано, что серологическая диагностика может применяться в качестве предиктора атрофии СОЖ и служить основанием для проведения ЭГДС с биопсией и морфологической верификации по системе OLGA. При этом низкий показатель ПГ I и/или соотношения ПГ I/ПГ II позволяет выявить пациентов с тяжелыми стадиями атрофии СОЖ, отражая более высокий риск развития РЖ. Данные, полученные из регионов с высокой заболеваемостью РЖ, например в странах Восточной Азии, подтверждают это положение.
Исследования, проведенные в Латвии, демонстрируют более низкую чувствительность метода для умеренной и тяжелой атрофии (52%) при его высокой специфичности (90%). Показатель AUC составил 0,77, при этом корректировка пороговых значений не дала каких-либо значимых результатов [2].
Систематический обзор и метаанализ, проведенные с целью оценки эффективности серологического тестирования (ПГ I ≤ 70 нг/мл и соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3) для диагностики АтГ, показали чувствительность 59% (95% ДИ 38–78) [12]. В 2004 г. опубликован метаанализ, согласно которому уровень ПГ I ≤ 50 нг/мл и соотношение ПГ I/ПГ II ≤ 3 являются пороговыми значениями для диагностики дисплазии [13]. В метаанализе 2015 г. выявлена корреляция между сниженными СПГ и атрофией СОЖ. Так, суммарные чувствительность и специфичность для диагностики РЖ составили 0,69 (95% ДИ 0,60–0,76) и 0,73 (95% ДИ 0,62–0,82) соответственно, в то же время суммарные чувствительность и специфичность для выявления АтГ были 0,69 (95% ДИ 0,55–0,80) и 0,88 (95% ДИ 0,77–0,94) соответственно [14].
В настоящее время для оценки риска РЖ рекомендуется выполнение ЭГДС с полным осмотром СОЖ и проведением биопсии по OLGA и/или OLGIM (Operative Link for Gastric Intestinal Metaplasia – системе гистопатологического стадирования, разработанной как модификации системы OLGA) для определения тяжести атрофического процесса и его распространенности [15, 16]. По результатам морфологического заключения в зависимости от стадии атрофии определяются необходимость и частота проведения эндоскопического наблюдения. Протокол проведения биопсии по OLGA требует забор 5 фрагментов из желудка: 2 – из антрального отдела, 2 – из тела желудка, и, по обновленной Сиднейской системе, еще 1 образец биопсии следует взять из incisura angularis. В дополнение должен проводиться забор биопсийного материала из любых подозрительных участков СОЖ [2, 8].
Гистологическое заключение должно содержать топографию, степень атрофических изменений, а также стадию OLGA/OLGIM, которая хорошо коррелирует с риском РЖ и может повлиять на стратегию наблюдения. В метаанализе показано, что у пациентов с III–IV стадией атрофии СОЖ, выявленной по системам OLGA или OLGIM, риск развития РЖ был выше по сравнению с больными с 0–II стадией. В странах со средней и высокой заболеваемостью РЖ отношение шансов составило 2,64 (95% ДИ 1,84–3,79) для III–IV стадии по системе OLGA и 3,99 (95% ДИ 3,0–5,21) – для III–IV стадии по системе OLGIM. Недавно опубликованный консенсус RE.GA.IN (Real-World Gastritis Initiative) рекомендует проведение ЭГДС пациентам с III–IV стадией по OLGA/OLGIM с интервалом 3 года или в соответствии с местными рекомендациями [15]. Согласно MAPS III пациентам с III–IV стадиями атрофии рекомендовано эндоскопическое наблюдение каждые 3 года, а при наличии семейного анамнеза в отношении РЖ – каждые 1–2 года [17].
Представленные нами данные демонстрируют довольно высокую чувствительность (75,81%) и специфичность (81,5%) референсных показателей порогового значения тест-системы GastroPanel для уровня ПГ I ≤ 30 мкг/л в московской популяции. Кроме того, выявлена большая чувствительность (85,48%) при меньшей специфичности (64,5%) соотношения ПГ I/ПГ II ≤ 3. При оптимизации показателей порогового значения несколько снижается чувствительность, но нарастает специфичность.
У пациентов с инфекцией H. pylori мы чаще наблюдали нормальные показатели СПГ и 0–I–II стадию атрофии, вероятно, из-за исходного поражения антрального отдела и интактного тела желудка. Что касается средних значений соотношения ПГ I/ПГ II и их корреляции со стадией атрофии, мы выявили статистически значимую медиану в группах АИГ+НР+ и АИГ-НР+, по всей вероятности, за счет персистирования инфекции Н. pylori и вовлечения в патологический процесс антрального отдела желудка, из-за чего происходит «утяжеление» стадии атрофии. Однако существуют небольшие отличия при оценке средних значений ПГ I. Корреляционную связь наблюдали только в группе АИГ+НР+, что позволяет сделать вывод о более чувствительном показателе соотношения ПГ I/ПГ II и дискутировать о показателе порогового значения для ПГ I.
Показатели чувствительности уровней СПГ (ПГ I и соотношения ПГ I/ПГ II) для выявления III–IV стадий атрофии СОЖ по системе OLGA были наиболее высокими во 2-й группе пациентов (АИГ+НР-) ввиду вовлечения в патологический процесс тела желудка. Напротив, в 3-й группе (АИГ-НР+) наблюдали низкие показатели чувствительности за счет поражения преимущественно антрального отдела желудка.
Таким образом, полученные данные подтверждают высокую диагностическую ценность сывороточных маркеров атрофии (ПГ I и ПГ II) при выявлении групп пациентов высокого риска развития РЖ (OLGA III–IV стадии) в московской популяции. Наши результаты напрямую подчеркивают важность своевременного скрининга факторов риска атрофии, основным и наиболее распространенным из которых признана инфекция H. pylori [18, 19]. В 2 метаанализах показано, что эрадикация H. pylori достоверно снижает риск РЖ у пациентов с хроническим АтГ или неатрофическим гастритом (суммарный относительный риск 0,64, 95% ДИ 0,48–0,85), но не у пациентов с кишечной метаплазией или дисплазией (относительный риск 0,88, 95% ДИ 0,59–1,31) [20, 21]. Вместе с тем необходимо учитывать, что эффективность эрадикационной терапии зависит от многих факторов, главными из которых можно считать резистентность микроорганизма и комплаенс пациента, что подчеркивает обязательный характер контрольного тестирования на инфекцию после проведенного лечения [22–24]. Отдельно стоит отметить, что препараты, таргетно влияющие на атрофию СОЖ, находятся в процессе разработки и формирования доказательной базы эффективности [16]. Однако в ряде независимых исследований показано, что терапия ребамипидом приводит к регрессу морфологических признаков воспаления [25–27], а также может способствовать снижению выраженности атрофических изменений СОЖ [28, 29].
Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что сывороточные пепсиногены могут применяться в московской популяции в качестве неинвазивного маркера атрофии СОЖ для формирования групп пациентов высокого риска развития РЖ, которым необходимо проведение эндоскопического исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Conflict of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Статья подготовлена в рамках реализации научно-практического проекта в сфере медицины «Эпидемиологическое исследование распространенности инфекции Helicobacter pylori в г. Москве» (соглашение №0903-1/22 от 21.03.2022).
Funding source. The article was prepared within the framework of the scientific and practical project in the field of medicine "Epidemiological study of the prevalence of Helicobacter pylori infection in Moscow" (agreement No. 0903-1/22 dated 21.03.2022).
About the authors
Margarita V. Chebotareva
Loginov Moscow Clinical Scientific Center; Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0175-4328
мл. науч. сотр. лаб. функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка; специалист организационно-методического отд. по гастроэнтерологии
Russian Federation, Moscow; MoscowKarine A. Nikolskaya
Loginov Moscow Clinical Scientific Center; Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1477-888X
канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отд. патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и верхних отделов пищеварительного тракта; зав. организационно-методическим отд. по гастроэнтерологии
Russian Federation, Moscow; MoscowDmitry N. Andreev
Russian University of Medicine
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4007-7112
канд. мед. наук, доц. каф. пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowAlexey S. Dorofeev
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8515-6658
мл. науч. сотр. лаб. клинической иммунологии
Russian Federation, MoscowSergey G. Khomeriki
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4308-8009
д-р мед. наук, проф., зав. лаб. инновационной патоморфологии
Russian Federation, MoscowLarisa A. Tsapkova
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7206-8691
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаб. онкогенетики и наследственных заболеваний Центра персонализированной медицины
Russian Federation, MoscowElena V. Parfenchikova
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6972-8644
д-р мед. наук, зав. отд-нием диагностической эндоскопии
Russian Federation, MoscowArtur M. Veliev
Russian University of Medicine
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-2857-2475
соискатель каф. пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко
Russian Federation, MoscowAlexey Yu. Spasenov
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7492-7966
Russian Federation, Moscow
Irina N. Voynovan
Loginov Moscow Clinical Scientific Center
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5584-8514
канд. мед. наук, науч. сотр. отд. патологии поджелудочной железы, желчевыводящих путей и верхних отделов пищеварительного тракта
Russian Federation, MoscowDmitry S. Bordin
Loginov Moscow Clinical Scientific Center; Russian University of Medicine; Tver State Medical University
Author for correspondence.
Email: dbordin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2815-3992
д-р мед. наук, зав. отд. патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта; проф. каф. пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного фак-та Научно-образовательного института клинической медицины им. Н.А. Семашко; проф. каф. общей врачебной практики и семейной медицины
Russian Federation, Moscow; Moscow; TverReferences
- Bordin D, Livzan M. History of chronic gastritis: How our perceptions have changed. World J Gastroenterol. 2024;30(13):1851-8. doi: 10.3748/wjg.v30.i13.1851
- Бордин Д.С., Никольская К.А., Чеботарева М.В., Хатьков И.Е. Современные стратегии профилактики рака желудка. Терапевтический архив. 2024;96(12):59-64 [Bordin DS, Nikolskaya KA, Chebotareva MV, Khatkov IE. Modern strategies for the gastric cancer prevention. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2024;96(12):59-64 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2024.12.203080
- Robles C, Rudzite D, Polaka I, et al. Assessment of serum pepsinogens with and without co-testing with gastrin-17 in gastric cancer risk assessment-results from the GISTAR Pilot Study. Diagnostics (Basel). 2022;12(7):1746. doi: 10.3390/diagnostics12071746
- Kriķe P, Shums Z, Poļaka I, et al. The diagnostic value of anti-parietal cell and intrinsic factor antibodies, pepsinogens, and gastrin-17 in corpus-restricted atrophic gastritis. Diagnostics (Basel). 2022;12(11):2784. doi: 10.3390/diagnostics12112784
- Куваев Р.О., Никонов Е.Л., Кашин С.В., Гусейнова С.Р. Роль эндоскопии в программах скрининга рака верхних отделов пищеварительного тракта. Доказательная гастроэнтерология. 2024;13(2): 79-88 [Kuvaev RO, Nikonov EL, Kashin SV, Guseinova SR. The impact of endoscopy in upper gastrointestinal tract cancer screening programs. Russian Journal of Evidence-Based Gastroenterology. 2024;13(2):79-88 (in Russian)]. doi: 10.17116/dokgastro20241302179
- Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., и др. H. pylori-ассоциированный, постэрадикационный и негеликобактерный гастриты: алгоритм диагностики и лечения (обзор литературы и резолюция Совета экспертов Российской гастроэнтерологической ассоциации). Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2024;34(3):7-23 [Ivashkin VT, Maev IV, Lapina TL, et al. H. pylori-associated gastritis, gastritis after H. pylori eradication and H. pylori-negative gastritis: Algorithm of diagnosis and treatment (literature review and resolution of the expert panel of the Russian Gastroenterological Association). Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2024;34(3):7-23 (in Russian)]. doi: 10.22416/1382-4376-2024-34-3-7-23
- Ливзан М.А., Гаус О.В., Мозговой С.И., и др. Хронический аутоиммунный гастрит: факторы риска, клинические проявления и принципы диагностики. Эффективная фармакотерапия. 2021;17(39):66-73 [Livzan MA, Gaus OV, Mozgovoy SI, et al. Chronic autoimmune gastritis: Risk factors, clinical manifestations and principles of diagnosis. Effective Pharmacotherapy. 2021;17(39):66-73 (in Russian)]. doi: 10.33978/2307-3586-2021-17-39-66-73
- Shah SC, Piazuelo MB, Kuipers EJ, Li D. AGA clinical practice update on the diagnosis and management of atrophic gastritis: Expert review. Gastroenterology. 2021;161(4):1325-32.e7. doi: 10.1053/j.gastro.2021.06.078
- Leja M. Where are we with gastric cancer screening in Europe in 2024? Gut. 2024;73(12):2074-82. doi: 10.1136/gutjnl-2024-332705
- Hoft SG, Noto CN, DiPaolo RJ. Two distinct etiologies of gastric cancer: Infection and autoimmunity. Front Cell Dev Biol. 2021;9:752346. doi: 10.3389/fcell.2021.752346
- Castellana C, Eusebi LH, Dajti E, et al. Autoimmune atrophic gastritis: A clinical review. Cancers (Basel). 2024;16(7):1310. doi: 10.3390/cancers16071310
- Bang CS, Lee JJ, Baik GH. Prediction of chronic atrophic gastritis and gastric neoplasms by serum pepsinogen assay: A systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy. J Clin Med. 2019;8(5):657. doi: 10.3390/jcm8050657
- Dinis-Ribeiro M, Yamaki G, Miki K, et al. Meta-analysis on the validity of pepsinogen test for gastric carcinoma, dysplasia or chronic atrophic gastritis screening. J Med Screen. 2004;11(3):141-7. doi: 10.1258/0969141041732184
- Huang Y Kai, Yu J Chun, Kang W Ming, et al. Significance of serum pepsinogens as a biomarker for gastric cancer and atrophic gastritis screening: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(11):e0142080. doi: 10.1371/journal.pone.0142080
- Rugge M, Genta RM, Malfertheiner P, et al. RE.GA.IN.: the Real-world Gastritis Initiative – updating the updates. Gut. 2024;73(3):407-41. doi: 10.1136/gutjnl-2023-331164
- Андреев Д.Н., Кучерявый Ю.А. Хронический атрофический гастрит: современное состояние проблемы. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2024;(4):10-9 [Andreev DN, Kucheryavyi YuA. Chronic atrophic gastritis: Current state of the problem. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2024;(4):10-9 (in Russian)]. doi: 10.31146/1682-8658-ecg-224-4-10-1
- Dinis-Ribeiro M, Libânio D, Uchima H, et al. Management of epithelial precancerous conditions and early neoplasia of the stomach (MAPS III): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG) and European Society of Pathology (ESP) Guideline update 2025. Endoscopy. 2025;57(5):504-54. doi: 10.1055/a-2529-5025
- Бордин Д.С., Ливзан М.А., Осипенко М.Ф., и др. Ключевые положения консенсуса Маастрихт VI. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2022;(9):5-21 [Bordin DS, Livzan MA, Osipenko MF, et al. The key statements of the Maastricht VI consensus. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2022;(9):5-21 (in Russian)]. doi: 10.31146/1682-8658-ecg-205-9-5-21
- Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Андреев Д.Н., Баркалова Е.В. Эрадикационная терапия инфекции Helicobacter pylori: обзор мировых тенденций. Терапевтический архив. 2014;86(3):94-9 [Maev IV, Kucheryavyi YuA, Andreev DN, Barkalova EV. Eradication therapy for Helicobacter pylori infection: Review of world trends. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2014;86(3):94-9 (in Russian)].
- Chen HN, Wang Z, Li X, Zhou ZG. Helicobacter pylori eradication cannot reduce the risk of gastric cancer in patients with intestinal metaplasia and dysplasia: Evidence from a meta-analysis. Gastric Cancer. 2016;19(1):166-75. doi: 10.1007/s10120-015-0462-7
- Rokkas T, Rokka A, Portincasa P. A systematic review and meta-analysis of the role of Helicobacter pylori eradication in preventing gastric cancer. Ann Gastroenterol. 2017;30(4):414-23. doi: 10.20524/aog.2017.0144
- Маев И.В., Андреев Д.Н. Молекулярно-генетические предикторы резистентности к антихеликобактерной терапии. Терапевтический архив. 2017;89(8):5-12 [Maev IV, Andreev DN. Molecular genetic predictors of resistance to anti-Helicobacter pylori therapy. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2017;89(8):5-12 (in Russian)]. doi: 10.17116/terarkh20178985-12
- Maev IV, Andreev DN, Kucheryavyi YA, Dicheva DT. Host factors influencing the eradication rate of Helicobacter pylori. World Applied Sciences Journal. 2014;30(30):134-40. doi: 10.5829/idosi.wasj.2014.30.mett.61
- Andreev DN, Khurmatullina AR, Maev IV, et al. Helicobacter pylori antibiotic resistance in Russia: A systematic review and meta-analysis. Antibiotics (Basel). 2025;14(5):524. doi: 10.3390/antibiotics14050524
- Haruma K, Ito M, Kido S, et al. Long-term rebamipide therapy improves Helicobacter pylori-associated chronic gastritis. Dig Dis Sci. 2002;47(4):862-7. doi: 10.1023/a:1014716822702
- Kamada T, Sato M, Tokutomi T, et al. Rebamipide improves chronic inflammation in the lesser curvature of the corpus after Helicobacter pylori eradication: A multicenter study. Biomed Res Int. 2015;2015:865146. doi: 10.1155/2015/865146
- Андреев Д.Н., Маев И.В., Дичева Д.Т., и др. Эффективность и безопасность применения ребамипида в схеме тройной эрадикационной терапии инфекции Helicobacter pylori: проспективное рандомизированное сравнительное исследование. Терапевтический архив. 2018;90(8):27-32 [Andreev DN, Maev IV, Dicheva DT, et al. Efficacy and safety of the use of rebamipide in the scheme of triple eradication therapy of Helicobacter pylori infection: A prospective randomized comparative study. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2018;90(8):27-32 (in Russian)]. doi: 10.26442/terarkh201890827-32
- Lee JS, Jeon SW, Lee HS, et al. Rebamipide for the improvement of gastric atrophy and intestinal metaplasia: A prospective, randomized, pilot study. Dig Dis Sci. 2022;67(6):2395-402. doi: 10.1007/s10620-021-07038-7
- Бакулин И.Г., Сушилова А.Г., Жарков А.В., Мальков В.А. Эффективность шестимесячной терапии ребамипидом при хроническом атрофическом гастрите: результаты исследования «ОПЛОТ». Эффективная фармакотерапия. 2024;20(46):28-3 [Bakulin IG, Sushilova AG, Zharkov AV. Effectiveness of 6-month rebamipide therapy in chronic atrophic gastritis: Results of the OPLOT study. Effective Pharmacotherapy. 2024;20(46):28-3 (in Russian)]. doi: 10.33978/2307-3586-2024-20-46-28-34
Supplementary files