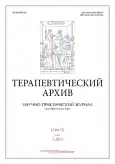Markers of T2-airway inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease
- Authors: Sergeeva G.R.1, Emelyanov A.V.1, Leshenkova E.V.1, Znakhurenko A.A.1
-
Affiliations:
- Mechnikov North-Western State Medical University
- Issue: Vol 97, No 3 (2025): Пульмонология
- Pages: 250-256
- Section: Original articles
- Submitted: 23.01.2025
- Accepted: 19.02.2025
- Published: 15.04.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/646535
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.03.203147
- ID: 646535
Cite item
Full Text
Abstract
Aim. To assess biomarkers of T2-inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Materials and methods. We examined 173 adult outpatients (80% male, age 40–89 yrs) with COPD. Lung function tests were assessed by using the Spirograph 2120 (Vitalograph, UK). Blood eosinophils (Eos) were measured by automatic haemoanalyser. Atopic status was determined by serum specific immunoglobulin E to common inhalant allergens. Fractional exhaled nitric oxide (FeNO) was measured by a chemiluminescence analyzer (LR4100, Logan Research, Rochester, UK). Symptoms and quality of life were assessed by using Russian versions of St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) and COPD Assessment Test. Statistical analyses were performed with Statistica ver. 10.0 (StatSoft, Inc., USA).
Results. The most frequent marker was blood Eos ≥150 cell/μl (36%), less often was elevated level FeNO≥20 ppb, allergy was rare (5%) and house dust mites were the common allergen. T2-associated diseases (allergic rhinitis, nasal polyposis, atopic dermatitis) were diagnosed in 7% patients.
Conclusion. Forty percent of patients with COPD without concomitant asthma have markers of T2-airway inflammation in a real clinical practice. The most frequent marker was blood Eos≥150 cell/μl that was associated with rate of COPD exacerbation. Frequency of concomitant T2-diseases (allergic rhinitis, nasal polyps, atopic dermatitis) was low.
Full Text
Список сокращений
Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является гетерогенным заболеванием. В его развитии принимают участие разные механизмы (эндотипы), сочетание которых приводит к разнообразным клиническим проявлениям (фенотипам). Их понимание важно для персонализированного лечения пациентов.
При ХОБЛ хроническое воспаление дыхательных путей (ДП) чаще связывается с Т1-эндотипом, в развитии которого принимают участие лимфоциты Т-хелперы (Th) 1-го типа, макрофаги, нейтрофилы и другие клетки. У части пациентов доминирует Т2-воспаление ДП с участием Тh 2-го типа, врожденных лимфоидных клеток 2-го типа, В-лимфоцитов и эозинофилов [1]. Его наличие ассоциировано с более высокой частотой обострений ХОБЛ и является показанием для назначения ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС и ГКС), а также препаратов генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) [2]. Маркерами Т2-эндотипа являются количество эозинофилов мокроты ≥2%, периферической крови ≥150 кл/мкл, уровень оксида азота (NO) выдыхаемого воздуха (FeNO) >20 ppb и клинически выявляемая гиперчувствительность к аллергенам [3]. Известно, что Т2-воспаление ДП преобладает у больных бронхиальной астмой (БА) и достигает 50–70% [4]. Согласно полученным нами данным при тяжелой БА хотя бы один из маркеров Т2-воспаления ДП встретился более чем у 90% больных [5].
В странах Северной Америки и Европы Т2-эндотип ХОБЛ может наблюдаться у 20–40% пациентов, не имеющих сопутствующей БА [6–10]. Его частота и характеристика маркеров у российских пациентов изучены пока недостаточно.
Цель исследования – оценить частоту выявления маркеров Т2-воспаления дыхательных путей у больных ХОБЛ.
Материалы и методы
В соответствии с этическими нормами Хельсинкской декларации проведено одноцентровое одномоментное и ретроспективное исследование, в которое с января 2020 по январь 2023 г. включены пациенты с ХОБЛ (n=173). Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова».
Критерии включения больных в исследование:
- наличие установленного диагноза ХОБЛ≥1 года [11];
- возраст пациента ≥40 лет;
- правильное использование ингаляционных препаратов;
- отсутствие противопоказаний к проведению функциональных и лабораторных методов исследования;
- подписанное добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии невключения:
- наличие БА в анамнезе;
- любое значимое заболевание или расстройство, которое могло повлиять на результаты или способность пациента участвовать в исследовании;
- беременность, грудное вскармливание или планируемая беременность в период исследования;
- ухудшение ХОБЛ, требовавшее изменения терапии, применения оральных или парентеральных форм ГКС и/или депо-инъекций ГКС за 30 дней до оценки уровней маркеров;
- перенесенная в течение последних 30 дней вирусная или бактериальная инфекция;
- отказ больного.
Пациентов включали в исследование после подписания информированного согласия.
Анализировалась демографические данные, сведения о курении и ранее выявленных сопутствующих заболеваниях, частота среднетяжелых и тяжелых обострений ХОБЛ: ухудшение симптомов, потребовавшее незапланированного обращения за медицинской помощью, использование антибактериальной терапии и /или курса системных ГКС (СГКС), госпитализации за предшествующие 12 мес. Оценивали проводимую терапию ХОБЛ, включающую антихолинергические препараты длительного действия (АХДД), длительно действующие b2-адреномиметики (ДДБА), ИГКС, СГКС. Дозы ИГКС рассчитывались в пересчете на беклометазона дипропионат (мкг), СГКС – в пересчете на преднизолон (мг).
Больные, перенесшие в течение предшествующего года ≥2 нетяжелых обострений, потребовавших амбулаторного лечения антибиотиками и/или СГКС (либо ≥1 госпитализаций), включены в группу ХОБЛ с высоким риском обострений (1-я группа). Пациенты с 1 нетяжелым обострением или без таковых составили группу ХОБЛ с невысоким риском их развития (2-я группа).
Всем больным выполняли спирометрию с оценкой обратимости обструкции и отношения объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) / форсированной жизненной емкости легких через 15 мин после ингаляции 400 мкг сальбутамола (спирограф 2120, Vitalograph, Великобритания), измеряли индекс массы тела (ИМТ). Тяжесть бронхиальной обструкции оценивали по постбронхолитическому значению ОФВ1 на основании критериев Глобальной инициативы по хронической обструктивной болезни легких (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD 2024): легкая (ОФВ1>80% от должного, GOLD I), средней тяжести течения (ОФВ1 – 50–80% от должного значения, GOLD II), тяжелое (ОФВ1 – 30–50% от должного, GOLD III), крайне тяжелое (ОФВ1<30%, GOLD IV). Качество жизни пациентов и влияние симптомов ХОБЛ на жизнь пациента определяли при помощи русскоязычных версий респираторного вопросника госпиталя Святого Георгия (SGRQ) и опросника ХОБЛ – CAT [COPD (chronic obstructive pulmonary disease) Assessment Test].
Оценку чувствительности к основным ингаляционным аллергенам осуществляли с помощью уровней специфических иммуноглобулинов (Ig) E в сыворотке крови (>0,35 kU/l; Phadia AB, Швеция). Количество эозинофилов периферической крови (ЭОЗ) определялось импедансным методом на автоматическом гемоанализаторе. Уровень FeNO измерялся согласно рекомендациям Американского торакального общества (American Thoracic Society) / Европейского респираторного общества (European Respiratory Society) на хемилюминесцентном газоанализаторе (LR4100, Logan Research, Великобритания) у 68 больных. Уровни маркеров оценивали через ≥30 дней после очередного обострения [12]. Маркерами Т2-воспаления ДП считали ЭОЗ≥150 кл/мкл, FeNO≥20 ppb, а также наличие клинически значимой гиперчувствительности к аллергенам.
Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием общепринятых параметрических и непараметрических методов. Нормальность распределения признаков определяли по методу Колмогорова–Смирнова. При сравнительном анализе групп применяли непараметрические критерии Манна–Уитни (для количественных данных) и χ2-тест (для качественных данных). Нулевую гипотезу (ошибку 1-го рода) отвергали при p<0,05. Для расчетов использовали пакет прикладных статистических программ Statistica версии 10.0 (StatSoft Inc., США).
Результаты
Характеристика включенных в исследование 173 больных ХОБЛ представлена в табл. 1. Большинство пациентов были мужского пола (80%), имели анамнез курения (99%), медиана индекса курящего человека составила 40 пачко-лет. Наиболее часто встретилось среднетяжелое (у 40% исследуемых лиц) и тяжелое (у 41%) течение ХОБЛ. У 1/2 пациентов имелся высокий риск обострений заболевания. Выявлены низкие показатели функции легких (медиана ОФВ1 составила 43% от должного), выраженные симптомы и низкое качество жизни.
Таблица 1. Характеристика пациентов с ХОБЛ
Table 1. Characteristics of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Характеристика | ХОБЛ | р1,2 | ||
все | с высоким риском | с низким риском | ||
Пол мужской, абс. (%) | 139 (80) | 71 (80) | 68 (81) | 0,848 |
ИМТ, кг/м2 | 24,6 (21,9–28,0) | 24,6 (21,9–28,4) | 24,5 (21,9–28,0) | 0,898 |
Возраст, лет | 63 (57–68) | 63 (57–68) | 63 (57–68) | 0,694 |
Высшее образование, абс. (%) | 56 (41) | 33 (43) | 23 (38) | 0,544 |
Длительность ХОБЛ, лет | 4 (2–8) | 5 (3–8) | 3 (2–6) | 0,010 |
Тяжесть ХОБЛ, абс. (%): | ||||
легкая | 15 (9) | 6 (7) | 9 (11) | 0,357 |
средняя | 69 (40) | 30 (34) | 39 (46) | 0,107 |
тяжелая | 72 (41) | 41 (46) | 31 (37) | 0,230 |
крайне тяжелая | 17 (10) | 12 (13) | 5 (6) | 0,118 |
Атопия, абс. (%) | 8 (5) | 1 (1) | 7 (8) | 0,025 |
Вредные условия на производстве, абс. (%) | 39 (25) | 28 (33) | 11 (15) | 0,014 |
Курение в настоящее время, абс. (%) | 110 (64) | 54 (61) | 56 (68) | 0,971 |
Курение ранее, абс. (%) | 61 (37) | 31 (35) | 30 (37) | 0,709 |
Индекс курящего человека, пачко-лет | 40 (32–52) | 40 (32–51) | 42 (32–52) | 0,698 |
Стойкая утрата трудоспособности, абс. (%) | 64 (37) | 43 (48) | 21 (25) | 0,001 |
АР, абс. (%) | 8 (5) | 1 (1) | 7 (8) | 0,025 |
ХРС с полипозом, абс. (%) | 6 (3) | 4 (4) | 2 (2) | 0,436 |
ХРС без полипоза, абс. (%) | 12 (7) | 5 (6) | 7 (8) | 0,508 |
Атопический дерматит в детстве | 3 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 0,600 |
Число больных, имевших обострения ХОБЛ | 137 (79) | 89 (100) | 48 (56) | <0,001 |
Число обострений, абс. | 1,0 (1,0–2,0) | 2,0 (2,0–3,0) | 1,0 (0,0–1,0) | <0,001 |
ОФВ1 предбронходилатационный, % от должного | 43 (33–56) | 40 (31–49) | 48 (36–62) | 0,001 |
ОФВ1 постбронходилатационный, % от должного | 49 (40–65) | 47 (35–60) | 53 (43–67) | 0,007 |
ОФВ1/ФЖЕЛ после пробы с бронхолитиком, % | 49 (40–60) | 48 (37–58) | 50 (43–61) | 0,116 |
САТ, сумма баллов | 17 (11–26) | 18 (12–26) | 17 (11–24) | 0,224 |
САТ ≥10 баллов, абс. (%) | 135 (78) | 72 (81) | 63 (75) | 0,340 |
SGRQ, шкала «общий балл» | 51 (47–75) | 54 (43–61) | 45 (27–57) | 0,022 |
КДБА, суточная доза (количество вдохов) | 4 (2–6) | 4 (2–6) | 4 (2–6) | 0,978 |
АХДД, абс. (%) | 144 (83) | 75 (84) | 69 (82) | 0,711 |
ДДБА, абс. (%) | 78 (45) | 38 (43) | 40 (48) | 0,518 |
ИГКС, абс. (%) | 78 (45) | 43 (48) | 35 (42) | 0,427 |
ИГКС, суточная доза (беклометазона | 1034±40 | 1051±54 | 1014±60 | 0,493 |
СГКС, абс. (%) | 3 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 0,600 |
ИГКС/ДДБА, абс. (%) | 18 (14) | 8 (13) | 10 (16) | 0,575 |
ДДБА/АХДД, абс. (%) | 10 (8) | 4 (6) | 6 (10) | 0,607 |
ИГКС/ДДБА/АХДД, абс. (%) | 48 (28) | 25 (28) | 23 (27) | 0,883 |
Комплаентность базисной терапии, абс. (%) | 96 (56) | 54 (60) | 42 (50) | 0,160 |
Примечание. Здесь и далее в табл. 2: количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (Q1–Q3), где Q1 – 25-й перцентиль, Q3 – 75-й перцентиль. Качественные переменные описаны абсолютными (абс.) и относительными (%) частотами. ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, КДБА – короткодействующие β2-агонисты.
Наиболее часто пациенты с ХОБЛ применяли АХДД, менее 1/2 больных использовали ДДБА и ИГКС. Комбинацию всех 3 классов препаратов получали 28% больных. Комплаентными базисной терапии (прием ≥80% назначенных доз) были 56% пациентов. Преобладающая (79%) часть больных ХОБЛ переносили обострения в течение предшествующего года. Более 1/3 пациентов имели стойкую утрату трудоспособности.
У больных ХОБЛ 1-й группы по сравнению со 2-й (см. табл. 1) длительность ХОБЛ была больше, они также переносили большее число обострений в течение предшествующего года, чаще имели вредные условия на производстве и стойкую утрату трудоспособности, у них были более низкие показатели функции легких и качества жизни. Не выявлено различий по полу, возрасту, ИМТ, частоте активного и пассивного курения между группами, определялись сопоставимая частота степеней тяжести ХОБЛ (GOLD) и выраженные симптомы согласно опроснику CAT. Частота сопутствующих Т2-зависимых заболеваний была низкой: аллергический ринит (АР) встретился у 5% больных ХОБЛ, хронический риносинусит (ХРС) с полипозом – у 3%, ХРС без полипоза – у 7% пациентов, атопический дерматит в детстве регистрирован у 2% больных ХОБЛ. В спектре сенсибилизации преобладали клещи домашней пыли (КДП) – 50%, частота сенсибилизации к аллергенам животных составила 38%, пыльце – 38%, грибам – 13%. Уровни маркеров и доли больных, имевших их повышение, представлены в табл. 2.
Таблица 2. Маркеры Т2-воспаления ДП у пациентов с ХОБЛ
Table 2. Biomarkers of airway inflammation in patients with COPD
Показатель | ХОБЛ | р1, 2 | ||
(n=173) | с высоким риском | с низким риском | ||
ЭОЗ, кл/мкл | 140 (80–232) | 165 (89–246) | 122 (57–199) | 0,147 |
ЭОЗ≥150/кл мкл, абс. (%) | 62 (36) | 39 (44) | 23 (27) | 0,025* |
ЭОЗ≥300 кл/мкл, абс. (%) | 31 (18) | 19 (21) | 12 (14) | 0,282 |
FeNO, ppb | 12 (8–20) (n=68) | 13 (10–23) (n=37) | 11 (7–18) (n=31) | 0,597 |
FeNO≥20 ppb, абс. (%) | 10 (15) | 6 (16) | 4 (13) | 0,727 |
Наличие маркеров Т2-воспаления ДП | 70 (40) | 42 (47) | 28 (33) | 0,064 |
Рис. 1. Частота маркеров Т2-воспаления ДП у пациентов с ХОБЛ, %.
Fig. 1. Frequency of T2-airway inflammation markers in patients with COPD, %.
У значительной (40%) части больных ХОБЛ имелись один или более критериев Т2-воспаления ДП, при этом самым частым маркером были ЭОЗ≥150 кл/мкл. У пациентов 1-й группы ЭОЗ≥150 кл/мкл встречались чаще, а атопия – реже, чем во 2-й группе. Не выявлено значимых различий по частоте Т2-воспаления ДП у пациентов в зависимости риска обострений (рис. 1).
Комбинации маркеров Т2-воспаления ДП у 68 пациентов с ХОБЛ представлены на рис. 2.
Рис. 2. Комбинации маркеров Т2-воспаления ДП у пациентов с ХОБЛ.
Примечание. В белых квадратах – число пациентов, абс.
Fig. 2. Combinations of markers of Т2-inflammation in patients with COPD.
Более чем у 1/2 больных ХОБЛ маркеры Т2-воспаления ДП не выявлены. Три маркера (ЭОЗ≥150 кл/мкл, FeNO≥20 ppb и атопия) одновременно присутствовали у 1 больного из 1-й группы. Два повышенных маркера Т2-воспаления ДП продемонстрировали 8 (12%) пациентов. Среди больных ХОБЛ в 1-й группе преобладало сочетание ЭОЗ≥150 кл/мкл и FeNO≥20 ppb, которое встретилось у 3 (8%) пациентов. У 3 (10%) исследуемых во 2-й группе одновременно выявлены ЭОЗ≥150 кл/мкл и атопия. Сочетание FeNO≥20 ppb и атопии не встретилось у больных ХОБЛ.
Среди всех обследованных больных ХОБЛ один повышенный маркер (ЭОЗ≥150 кл/мкл, или FeNO≥20 ppb, или атопия) выявлен у 23 (34%) пациентов. Чаще других единственным маркером Т2-воспаления ДП были ЭОЗ≥150 кл/мкл, встретившиеся у 16 (24%) больных. Изолированное повышение общего FeNO≥20 ppb отмечено у 5 (7%) пациентов (p<0,01), а атопия выявлена у 2 (3%) больных (p<0,001 по сравнению с частотой ЭОЗ≥150 кл/мкл).
Обсуждение
Обследованные пациенты с ХОБЛ по полу, возрасту, частоте курения и степени тяжести заболевания были сопоставимы с представленными в крупных зарубежных (COPDGene, SPIROMICS, KOCOSS) и отечественных (RESPECT) исследованиях. Отличие состояло в исключении больных с анамнезом БА. Частота использования ИГКС больными ХОБЛ (45%) была ниже, чем отмечено в большинстве (61–76%) зарубежных работ.
При Т2-воспалительном ответе у больных ХОБЛ предполагается, что увеличение количества эозинофилов в ДП может быть связано с действием Т-хелперов 2-го типа и врожденных лимфоидных клеток 2-го типа, активированных при высвобождении интерлейкина (ИЛ)-33 из эпителиальных клеток [1]. По мнению ряда авторов, эозинофильное воспаление ДП не позволяет провести дифференциальный диагноз между БА и ХОБЛ. Оно рассматривается в качестве маркера определенного эндо- и фенотипа заболеваний, которые будут наиболее чувствительны к лечению ГКС [1, 13].
Характеристики Т2-воспаления ДП при ХОБЛ и БА не идентичны. С повышением уровня эозинофилов в образцах бронхиальной браш-биопсии при ХОБЛ ассоциируются 12 генов, а при астме – 1197 генов и перекресты отсутствуют, соответственно, сигнальные пути Т2-воспаления ДП при ХОБЛ и БА различаются. Предположительно, это связано с разными воздействиями факторов внешней среды: при эозинофильной ХОБЛ токсичность сигаретного дыма и оксидативный стресс действуют совместно с IgE-независимой активацией тучных клеток, а при астме значимая роль отводится атопии и зависимой от IgE активации тучных клеток. Эффективность ГИБТ против цитокинов Т2-воспаления ДП оказывается несколько ниже при ХОБЛ, чем при БА [14].
Наиболее доступным и изученным маркером эозинофильного воспаления ДП являются ЭОЗ. Этот маркер демонстрирует хорошую воспроизводимость и не зависит от активного курения пациентов [15]. Уровень ЭОЗ при ХОБЛ выше, чем у здоровых лиц [16]. В течение года ретроспективного наблюдения в Великобритании показано, что 1/2 больных ХОБЛ стабильно имели ЭОЗ≥150 кл/мкл, что ассоциировалось с мужским полом, высоким ИМТ и наличием астмы у 35,7% больных в анамнезе [17]. При исключении пациентов с астмой и аллергией частота ЭОЗ≥300 кл/мкл составила 21%, эозинофилы в индуцированной мокроте ≥3% выявлены у 36% больных ХОБЛ [18]. Нами получены сопоставимые данные по встречаемости ЭОЗ≥300 кл/мкл при ХОБЛ (18%). Самый частый маркер Т2-воспаления ДП – ЭОЗ≥150 кл/мкл, который чаще отмечался у пациентов 1-й группы и у 24% больных, был единственным повышенным маркером.
FeNO является биомаркером Т2-воспаления ДП, который несет информацию о фенотипе заболевания и позволяет прогнозировать ответ на лечение ГКС и ГИБТ [19, 20]. Уровень FeNO может повышаться у пациентов с острыми или хроническими заболеваниями органов дыхания, такими как Т2-ассоциированная астма, АР, полипозный риносинусит, или при ряде респираторных вирусных инфекций за счет интерферон-γ-опосредованного механизма [21]. Низкие значения FeNO выявляются у пациентов с нейтрофильной астмой, ХОБЛ и идиопатическим легочным фиброзом [21].
NO играет важную роль в Т2-воспалении ДП, стимулируя активность, выживание и привлечение эозинофилов, тучных клеток, базофилов и лимфоцитов [22]. Экспрессия NO-синтаз происходит при воздействии различных Т2-цитокинов, преимущественно ИЛ-4 и ИЛ-13 [23]. ИЛ-5 вызывает эозинофилию независимо от стимуляции NO-синтаз и значимо не влияет на уровень NO [24]. Соответственно, FeNO и эозинофилы, будучи взаимосвязанными, тем не менее представляют собой отдельные биомаркеры, отражая два различных механизма развития Т2-воспаления ДП: связанный с ИЛ-4 и ИЛ-13, определяющий синтез IgE и продукцию NO, и ИЛ-5-зависимый, ответственный за активацию, развитие и привлечение эозинофилов. Эта точка зрения поддерживается результатами клинических исследований препаратов ГИБТ, направленных против разных цитокинов. Так, у пациентов с астмой, получавших ингибитор рецептора ИЛ-4 (дупилумаб) и ингибитор ИЛ-13 (лебрикизумаб), отмечалось выраженное снижение FeNO [23, 25]. У получавших ингибиторы ИЛ-5 (меполизумаб) уровень FeNO значимо не менялся, но значительно снижался уровень эозинофилов [24].
FeNO синтезируется в нижних ДП и коррелирует с выраженностью эозинофилии мокроты, крови и гиперреактивностью бронхов при БА [15, 16]. Однако в ряде случаев уровень FeNO может быть независим от эозинофилов. Из-за активного курения, разнообразных фенотипов заболевания и назначения ИГКС показатели FeNO у больных ХОБЛ подвержены сильным вариациям [1]. У бывших курильщиков с ХОБЛ уровни FeNO выше, чем у здоровых некурящих лиц, но ниже, чем при БА [26]. Стойко повышенный FeNO≥20 ppb у больных ХОБЛ связан с повышенным риском обострений и не был ассоциирован с уровнем ЭОЗ [27]. FeNO при ХОБЛ отражает наличие эозинофильного воспаления ДП, является предиктором ответа на ИГКС и будущих обострений [27]. Согласно полученным нами данным частота FeNO≥20 ppb у больных ХОБЛ составила 15%, без значимой разницы между группами, и у 7% пациентов повышенный FeNO был единственным маркером Т2-воспаления ДП. Его использование в совокупности с другими маркерами позволяет более точно проводить фенотипирование больных ХОБЛ с целью проведения персонализированной терапии.
В обзоре N. Putcha и соавт. (2020 г.) отмечено, что пациенты с ХОБЛ без атопии имели более выраженные симптомы и высокий риск обострений по сравнению с больными без атопии или астмы, тогда как у пациентов с атопией не выявлено повышенного риска нежелательных исходов [10]. В нашей работе также получены данные, что частота атопии значимо выше среди больных ХОБЛ 2-й группы по сравнению с 1-й. При оценке уровней специфических IgE у больных ХОБЛ в азиатской когорте наиболее частой была сенсибилизация к грибам (55,8%) и КДП (51,3%), причем уровни ЭОЗ у пациентов с разной выраженностью сенсибилизации не различались [28]. По данным P. Tiew и соавт., гиперчувствительность к грибам Aspergillus fumigatus, а также к аллергену таракана была ассоциирована с более частыми обострениями ХОБЛ, тогда как для сенсибилизации к КДП и пыльце растений связи с обострениями не выявлено [28]. Высокосенсибилизированные к грибам пациенты с ХОБЛ демонстрировали более частые обострения, выраженные симптомы и низкие показатели функции легких [28]. В настоящем исследовании наиболее частой у больных ХОБЛ была сенсибилизация к КДП (50%), что совпадает с данными зарубежных исследователей, а грибковая сенсибилизация отмечена только у 1 пациента. Вероятно, причиной наблюдаемых различий являются особенности обследованных когорт пациентов.
Заключение
Таким образом, у значительного (40%) числа больных ХОБЛ выявлялся Т2-эндотип заболевания, наиболее частым маркером которого был уровень ЭОЗ≥150 кл/мкл. У больных ХОБЛ с высоким риском обострений встречаемость ЭОЗ≥150 кл/мкл была выше, а атопии – ниже, чем при невысоком риске обострений. Частота сопутствующих Т2-зависимых заболеваний (АР, атопического дерматита, назального полипоза) у больных ХОБЛ была невысокой. Определение маркеров Т2-воспаления ДП необходимо для выбора персонализированной терапии.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
About the authors
Galina R. Sergeeva
Mechnikov North-Western State Medical University
Email: i.batova@omnidoctor.ru
ORCID iD: 0000-0003-1544-4336
кандидат медицинских наук, доцент каф. пульмонологии
Russian Federation, Saint PetersburgAlexander V. Emelyanov
Mechnikov North-Western State Medical University
Author for correspondence.
Email: emelav@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-8574-6869
доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. пульмонологии
Russian Federation, Saint PetersburgEvgeniya V. Leshenkova
Mechnikov North-Western State Medical University
Email: emelav@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0003-4616-3166
кандидат медицинских наук, доцент каф. пульмонологии
Russian Federation, Saint PetersburgAntonina A. Znakhurenko
Mechnikov North-Western State Medical University
Email: emelav@inbox.ru
ORCID iD: 0009-0008-3218-3397
ассистент каф. пульмонологии
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Barnes PJ. Inflammatory mechanisms in patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(1):16-27. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.011
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2025 Report. Available at: https://goldcopd.org/2025-gold-report. Accessed: 01.12.2024.
- Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Updated 2024. Available at: https://ginasthma.org/2024-report/ Accessed: 01.12.2024.
- Maspero J, Adir Y, Al-Ahmad M, et al. Type 2 inflammation in asthma and other airway diseases. ERJ Open Res. 2022;8(3):00576-2021. doi: 10.1183/23120541.00576-2021
- Сергеева Г.Р., Емельянов А.В. Фенотипы и эндотипы тяжелой бронхиальной астмы. Медицинский совет. 2024;(20):52-9 [Sergeeva GR, Emelyanov AV. Severe asthma phenotypes and endotypes. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2024;(20):52-9 (in Russian)]. doi: 10.21518/ms2024-461
- Fernandes L, Rane S, Mandrekar S, Mesquita AM. Eosinophilic airway inflammation in patients with stable biomass smoke- versus tobacco smoke-associated chronic obstructive pulmonary disease. J Health Pollut. 2019;9(24):191209. doi: 10.5696/2156-9614-9.24.191209
- Singh D, Kolsum U, Brightling CE, et al. Eosinophilic inflammation in COPD: Prevalence and clinical characteristics. Eur Respir J. 2014;44(6):1697-700. doi: 10.1183/09031936.00162414
- Barnes PJ, Chowdhury B, Kharitonov SA, et al. Pulmonary biomarkers in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(1):6-14. doi: 10.1164/rccm.200510-1659PP
- Bafadhel M, McKenna S, Agbetile J, et al. Aspergillus fumigatus during stable state and exacerbations of COPD. Eur Respir J. 2014;43(1):64-71. doi: 10.1183/09031936.00162912
- Putcha N, Fawzy A, Matsui EC, et al. Clinical phenotypes of atopy and asthma in COPD: A meta-analysis of SPIROMICS and COPDGene. Chest. 2020;158(6):2333-45. doi: 10.1016/j.chest.2020.04.069
- Хроническая обструктивная болезнь легких. Федеральные клинические рекомендации. Российское респираторное общество. Режим доступа: https://spulmo.ru/upload/KR-HOBL.pdf. Ссылка активна на 28.11.2024 [Khronicheskaia obstruktivnaia bolezn' legkikh. Federal'nye klinicheskie rekomendatsii. Rossiiskoe respiratornoe obshchestvo. Available at: https://spulmo.ru/upload/KR-HOBL.pdf. Accessed: 28.11.2024 (in Russian)].
- Busby J, Holweg CTJ, Chai A, et al. Change in type-2 biomarkers and related cytokines with prednisolone in uncontrolled severe oral corticosteroid dependent asthmatics: An interventional open-label study. Thorax. 2019;74(8):806-9. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-212709
- George L, Brightling CE. Eosinophilic airway inflammation: Role in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Ther Adv Chronic Dis. 2016;7(1):34-51. doi: 10.1177/2040622315609251
- Beech A, Higham A, Booth S, et al. Type 2 inflammation in COPD: Is it just asthma? Breathe (Sheff). 2024;20(3):230229. doi: 10.1183/20734735.0229-2023
- Авдеев С.Н., Трушенко Н.В., Мержоева З.М., и др. Эозинофильное воспаление при хронической обструктивной болезни легких. Терапевтический архив. 2019;91(10):144-52 [Avdeev SN, Trushenko NV, Merzhoeva ZM, et al. Eosinophilic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2019;91(10):144-52 (in Russian)]. doi: 10.26442/00403660.2019.10.000426
- Oshagbemi OA, Burden AM, Braeken DCW, et al. Stability of blood eosinophils in patients with chronic obstructive pulmonary disease and in control subjects, and the impact of sex, age, smoking, and baseline counts. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(10):1402-4. doi: 10.1164/rccm.201701-0009LE
- Landis S, Suruki R, Maskell J, et al. Demographic and clinical characteristics of COPD patients at different blood eosinophil levels in the UK clinical practice research datalink. COPD. 2018;15(2):177-84. doi: 10.1080/15412555.2018.1441275
- Kolsum U, Damera G, Pham TH, et al. Pulmonary inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease with higher blood eosinophil counts. J Allergy Clin Immunol. 2017;140(4):1181-4.e7. doi: 10.1016/j.jaci.2017.04.027
- Escamilla-Gil JM, Fernandez-Nieto M, Acevedo N. Understanding the cellular sources of the fractional exhaled nitric oxide (FeNO) and its role as a biomarker of type 2 inflammation in asthma. Biomed Res Int. 2022;2022:5753524. doi: 10.1155/2022/5753524
- Medrek SK, Parulekar AD, Hanania NA. Predictive biomarkers for asthma therapy. Curr Allergy Asthma Rep. 2017;17(10):69. doi: 10.1007/s11882-017-0739-5
- Maniscalco M, Fuschillo S, Mormile I, et al. Exhaled nitric oxide as biomarker of type 2 diseases. Cells. 2023;12(21):2518. doi: 10.3390/cells12212518
- Yatera K, Mukae H. Possible pathogenic roles of nitric oxide in asthma. Respir Investig. 2019;57(4):295-7. doi: 10.1016/j.resinv.2019.03.007
- Wenzel S, Castro M, Corren J, et al. Dupilumab efficacy and safety in adults with uncontrolled persistent asthma despite use of medium-to-high-dose inhaled corticosteroids plus a long-acting β2 agonist: A randomised double-blind placebo-controlled pivotal phase 2b dose-ranging trial. Lancet. 2016;388(10039):31-44. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30307-5
- Pavord ID, Korn S, Howarth P, et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): A multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2012;380(9842):651-9. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60988-X
- Corren J, Lemanske RF, Hanania NA, et al. Lebrikizumab treatment in adults with asthma. N Engl J Med. 2011;365(12):1088-98. doi: 10.1056/NEJMoa1106469
- Ansarin K, Chatkin JM, Ferreira IM, et al. Exhaled nitric oxide in chronic obstructive pulmonary disease: Relationship to pulmonary function. Eur Respir J. 2001;17(5):934-8. doi: 10.1183/09031936.01.17509340
- Alcázar-Navarrete B, Ruiz Rodríguez O, Conde Baena P, et al. Persistently elevated exhaled nitric oxide fraction is associated with increased risk of exacerbation in COPD. Eur Respir J. 2018;51(1):1701457. doi: 10.1183/13993003.01457-2017
- Tiew PY, Ko FWS, Pang SL, et al. Environmental fungal sensitisation associates with poorer clinical outcomes in COPD. Eur Respir J. 2020;56(2):2000418. doi: 10.1183/13993003.00418-2020