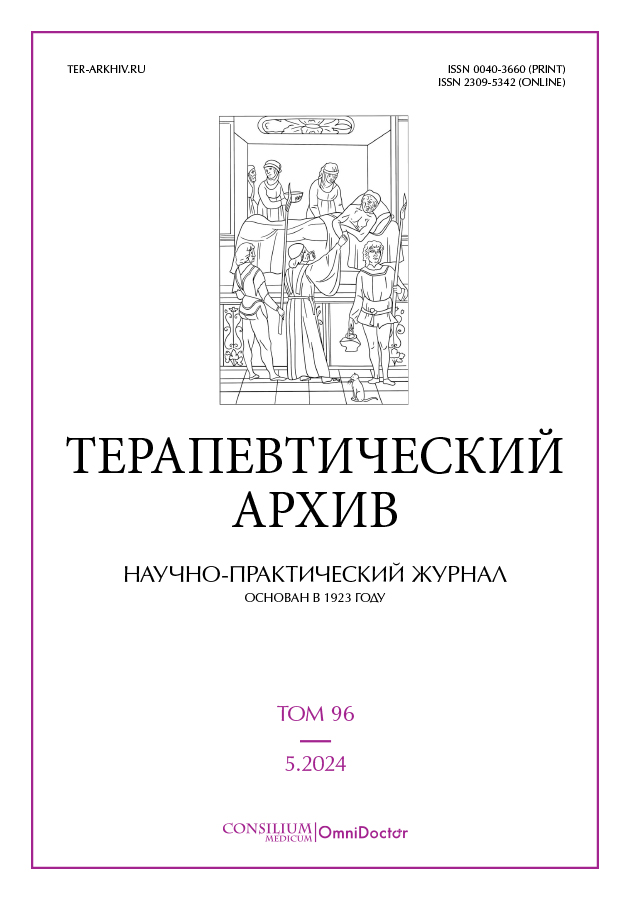Bone mineral density in women with rheumatoid arthritis: A link between immune and biochemical markers
- Authors: Dobrovolskaya O.V.1, Demin N.V.1, Kozyreva M.V.1, Samarkina E.Y.1, Diatroptov M.E.1, Toroptsova N.V.1
-
Affiliations:
- Nasonova Research Institute of Rheumatology
- Issue: Vol 96, No 5 (2024): Issues of rheumatology
- Pages: 494-499
- Section: Original articles
- Submitted: 14.05.2024
- Accepted: 15.05.2024
- Published: 03.06.2024
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/631988
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2024.05.202705
- ID: 631988
Cite item
Full Text
Abstract
Aim. To study the association of bone mineral density (BMD) with serum biochemical and immunological markers in postmenopausal women with rheumatoid arthritis (RA).
Materials and methods. The study included 173 women with RA (age 61.0 [56.0; 66.0] years). A survey, dual-energy X-ray absorptiometry to measure the BMD of the lumbar spine (LI–LIV), femoral neck (FN) and total hip (TH), routine blood chemistry, measurement of C-reactive protein (CRP), rheumatoid factor, cyclic citrullinated peptide antibodies (CCPA), parathyroid hormone (PTH), vitamin D3, myostatin, follistatin, interleukin-6 (IL-6), IL-6 receptors, insulin-like growth factor 1, adiponectin, leptin, fibroblast growth factor 23, and tumor necrosis factor SF12 were performed.
Results. PTH (β=-0.22, -0.35 and -0.30 for LI–LIV, FN and TH, respectively), CRP (β=-0.18, 0.23 and -0.22 for LI–LIV, FN and TH, respectively) and leptin (β=0.35, 0.32 and 0.42 for LI–LIV, FN and TH, respectively) were shown a significant association with BMD in all sites of measurement. It was independent of age, body mass index and postmenopause duration. Associations were also found between adiponectin and BMD of LI–LIV and TH (β=-0.36 and -0.28, respectively), CCPA and BMD of FN and TH (β=-0.21, -0.24, respectively) and IL-6 and BMD of FN (β=0.37).
Conclusion. The study of biochemical and immunological markers in women with RA demonstrated that CRP, CCPA, PTH, IL-6, adiponectin, and leptin influenced BMD.
Full Text
Список сокращений
Введение
Несмотря на длительную историю изучения механизмов развития остеопороза (ОП) при ревматоидном артрите (РА), она продолжает развиваться, пополняясь новыми фактами, вследствие которых происходит смена некоторых стереотипов. Например, ранее низкая масса тела считалась независимым фактором риска ОП и переломов, а к настоящему моменту показана высокая частота ожирения у женщин в постменопаузе с низкоэнергетическими переломами и выявлена роль ОП в качестве независимого фактора риска РА [1, 2].
Остеобласты, хондроциты и адипоциты происходят от общих мезенхимальных стволовых клеток-предшественников и обладают некоторыми едиными регуляторными факторами [3], что может объяснять перекрестные влияния этих клеток на ткани, составляющие органы опорно-двигательной системы. Некоторые исследователи изучали возможность прогнозирования ОП и риска переломов на основании определения уровня адипокинов в сыворотке крови [4, 5]. Однако в настоящее время невозможно сделать однозначных выводов о закономерностях связи между величиной минеральной плотности кости (МПК) и уровнем различных адипокинов. D. Mangion с соавт. привели сводные данные изучения связи между адипонектином, лептином и МПК в различных отделах скелета, которые оказались весьма противоречивыми как у практически здоровых лиц, так и у пациентов с различными хроническими заболеваниями [6]. Причем почти 1/2 проанализированных исследований проведена у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа или хронической болезнью почек, а работы с участием больных РА в данном обзоре не упоминаются.
Известно, что состояние костной ткани ассоциируется со здоровьем скелетной мускулатуры, что определяется не только механической нагрузкой на кости и активностью пациентов, напрямую связанными с мышечным статусом, но и влиянием миокинов. Например, B. Dankbar и соавт. на основании экспериментальных работ предположили, что миостатин участвует в дифференцировке остеокластов и способствует костной резорбции [7].
Помимо классических регуляторов костного обмена и цитокинов изучается роль в развитии ОП при РА и специфических для данного заболевания маркеров. В отдельных работах отмечена связь между серопозитивностью по ревматоидному фактору (РФ) и низкой МПК [8, 9], которая не всегда подтверждалась другими исследователями. Показано также, что антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) могут способствовать активации остеокластогенеза [10].
В целом только накопление и анализ больших массивов данных способны прояснить вопросы влияния специфических гуморальных факторов на костную ткань, и поэтому любые исследования взаимосвязи состояния МПК у больных РА с биохимическими и иммунологическими маркерами являются актуальными и представляют научный интерес.
Целью работы явилось изучение связи МПК с иммунологическими и биохимическими маркерами сыворотки крови у женщин в постменопаузе с РА.
Материалы и методы
В исследование включены 173 женщины в возрасте 40–75 лет в постменопаузе с РА, диагностированным согласно критериям ACR/EULAR (2010 г.), подписавшие информированное согласие. Медиана возраста и длительности постменопаузального периода составила 61,0 [56, 0; 66, 0] года и 11,5 [6, 0; 17, 0] года соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика обследованных женщин в постменопаузе с РА
Table 1. Characteristics of the examined postmenopausal women with rheumatoid arthritis (RA)
Показатель | N=173 |
Возраст, лет, Me [Q25; Q75] | |
ИМТ, кг/м2, Me [Q25; Q75] | |
Длительность постменопаузы, лет, Me [Q25; Q75] | |
Потребление кальция с пищей, мг, Me [Q25; Q75] | |
Низкоэнергетические переломы после ٤٠ лет, абс. (%) | 51 (29,5) |
Длительность РА, лет, Me [Q25; Q75] | |
Прием ГК, абс. (%): | 94 (54,3) |
длительность приема ГК, лет, Me [Q25; Q75] | |
суточная доза в течение последнего года, мг, Me [Q25; Q75] | |
Базисная противовоспалительная терапия, абс. (%) | 140 (80,9) |
Биологическая терапия, абс. (%) | 52 (30,1) |
Критериями невключения являлись наличие эндопротезов и металлоконструкций, искажающих результаты денситометрии, асептические некрозы тазобедренных суставов, тяжелая органная недостаточность, заболевания или прием лекарственных препаратов, вызывающих снижение МПК, кроме необходимых для терапии РА. Исследование одобрено локальным комитетом по этике ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой».
Всем пациенткам проведено клиническо-инструментальное обследование, включавшее сбор анамнеза, осмотр и антропометрические измерения, двуэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (Dual X-ray Absorptiometry, DXA; аппарат Lunar Prodigy GE, USA). МПК оценивали в поясничном отделе позвоночника (LI–LIV) и проксимальном отделе бедра (ПОБ): общий показатель бедра и шейка бедра (ШБ).
Лабораторное обследование состояло из «референсных» и «поисковых» исследований. К 1-й группе отнесены широко применяемые в клинической практике анализы, имеющие общепринятые нормативные значения или референсные показатели, различающиеся в зависимости от методики исследования: биохимический анализ крови, С-реактивный белок (СРБ), РФ, антитела к АЦЦП, паратиреоидный гормон (ПТГ) и витамин D3 – 25(OH)D. Кроме «рутинных» методом иммунофлуоресцентного анализа определены уровни цитокинов: миостатина, фоллистатина, интерлейкина-6 (ИЛ-6), рецепторов к ИЛ-6, инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР1), адипонектина, лептина, фактора роста фибробластов 23, фактора некроза опухоли SF12 (ФНО SF12).
Статистический анализ проводили, используя программное обеспечение Statistica 12.0 (StatSoft, США). Количественные данные большинства параметров не соответствовали закону нормального распределения, поэтому результаты представлены в виде медианы и межквартильного размаха (Ме [Q25; Q75]). При сравнительном анализе двух независимых групп использовали непараметрические методы: U-тест Манна–Уитни, критерий χ2. Проводили корреляционный анализ по Спирмену и линейный регрессионный анализ. При р<0,05 говорили о статистической значимости результатов.
Результаты
В обследованной группе преобладали пациентки с умеренной и высокой активностью РА – 73 (42,2%) и 84 (48,6%) соответственно. Медианные показатели скорости оседания эритроцитов, СРБ и индекса DAS28 (Disease Activity Score – индекс активности РА, включающий 28 суставов) составили 22,0 [13, 0; 43, 0] мм/ч, 6,4 [1, 4; 19, 0] мг/л и 5,17 [4, 40; 5, 86] соответственно.
По данным денситометрического обследования 98 (56,6%) пациенток нуждались в назначении противоостеопоротического лечения: 68 (39,3%) имели ОП, а у 30 (17,3%) пациенток, принимавших пероральные глюкокортикоиды (ГК), выявлена остеопения с Т-критерием <1,5 стандартного отклонения.
Пациентки с ОП были старше, имели бóльшую продолжительность постменопаузального периода и индекс массы тела (ИМТ) по сравнению с женщинами без ОП: 64,0 [59, 0; 69, 0] и 59,0 [54, 0; 64, 0] года; 14,0 [9, 0; 19, 0] и 10,0 [4, 0; 15, 0] года; 24,5 [21, 2; 26, 4] и 27,6 [24, 7; 31, 9] кг/м2 соответственно; р=0,001. По длительности РА, частоте применения ГК, ежедневной дозе ГК за прошедший год и кумулятивной дозе ГК значимых различий между группами не было. Проведен сравнительный анализ рутинных иммунологических и биохимических маркеров в зависимости от наличия ОП (табл. 2).
Таблица 2. Иммунологические и биохимические показатели у женщин с ОП (ОП+) и без ОП (ОП-), Me [Q25; Q75]
Table 2. Immunological and biochemical parameters in women with osteoporosis – OP (OP+) and without ОP (ОP-), Me [Q25; Q75]
Показатель | ОП+ | ОП- | р |
СРБ, мг/л | 0,048 | ||
РФ, МЕ/мл | >0,05 | ||
АЦЦП, Ед/мл | 0,039 | ||
ПТГ, пг/мл | 0,001 | ||
25(ОН)D, нг/мл | >0,05 | ||
Глюкоза, ммоль/л | >0,05 | ||
АЛТ, Ед/л | 0,009 | ||
АСТ, Ед/л | >0,05 | ||
Креатинин, мкмоль/л | >0,05 | ||
Клиренс креатинина, мл/мин | <0,001 | ||
Общий холестерин, ммоль/л | >0,05 | ||
Общий белок, г/л | >0,05 | ||
Альбумин, г/л | 0,036 | ||
ЩФ, Ед/л | 0,039 | ||
Кальций общий, ммоль/л | >0,05 | ||
Фосфор, ммоль/л | >0,05 |
Примечание. АСТ – аспартатаминотрансфереза.
В обследованной группе у пациенток с ОП определялись значимо более высокие уровни СРБ, АЦЦП, ПТГ, щелочной фосфатазы (ЩФ), а аланинаминотрансфераза (АЛТ), альбумин и клиренс креатинина были значимо меньше, чем у женщин без ОП. Значимых различий по частоте серопозитивности по РФ и АЦЦП между группами не выявлено.
Таблица 3. Сравнительная характеристика всей когорты больных РА и выборки пациентов, у которых проводилось определение уровня различных цитокинов, Me [Q25; Q75]
Table 3. Comparative characteristics of the entire cohort of RA patients and the sample of patients with various cytokines measured, Me [Q25; Q75]
Показатель | N=173 | N=73 | p |
Возраст, лет | >0,05 | ||
ИМТ, кг/м2 | >0,05 | ||
Длительность постменопаузы, лет | >0,05 | ||
Потребление кальция с пищей, мг | >0,05 | ||
Длительность РА, лет | >0,05 |
Цитокины определены у 73 пациенток, которые сопоставимы со всей когортой по возрасту, длительности РА и постменопаузы, показателям активности РА (табл. 3).
Таблица 4. Сравнение уровня цитокинов у женщин с ОП и без ОП
Table 4. Comparison of cytokine levels in women with and without OP
Показатель | ОП+ | ОП- | р |
Миостатин, нг/мл, Me [Q25; Q75] | >0,05 | ||
Фоллистатин, пг/мл, Me [Q25; Q75] | >0,05 | ||
Миостатин/фоллистатин, Me [Q25; Q75] | >0,05 | ||
ИФР1, нг/мл, Me [Q25; Q75] | >0,05 | ||
ФНО SF12, пг/мл, Me [Q25; Q75] | 0,015 | ||
ИЛ-6, пг/мл, Me [Q25; Q75] | >0,05 | ||
Рецепторы к ИЛ-٦, нг/мл, Me [Q25; Q75] | 0,014 | ||
Адипонектин, мкг/мл, Me [Q25; Q75] | 0,002 | ||
Лептин, нг/мл, Me [Q25; Q75] | >0,05 |
В табл. 4 представлены результаты определения уровня цитокинов у женщин с РА в зависимости от наличия ОП.
Для выявления ассоциаций иммунологических и биохимических маркеров сыворотки крови и МПК различных областей осевого скелета проведен корреляционный анализ, значимые результаты которого (коэффициенты корреляции r) представлены в табл. 5.
Таблица 5. Ассоциация биохимических и иммунологических маркеров с показателями МПК (р<0,05)
Table 5. Association of biochemical and immunological markers with bone mineral density parameters (p<0.05)
Маркер | МПК LI–LIV | МПКШБ | МПКПОБ |
АЛТ | 0,22 | 0,24 | 0,30 |
Клиренс креатинина | 0,26 | 0,30 | 0,32 |
ПТГ | -0,29 | -0,38 | -0,34 |
Фоллистатин | – | -0,26 | – |
ФНО SF12 | – | – | -0,27 |
ИЛ-6 | 0,34 | 0,38 | 0,29 |
Адипонектин | -0,35 | – | – |
Лептин | 0,34 | 0,33 | 0,41 |
Не выявлены ассоциации между МПК в различных областях измерения и уровнем СРБ, РФ, АЦЦП, 25(ОН)D, миостатина, ИФР1, ФНО SF12 и рецепторов к ИЛ-6, а также с рутинными биохимическими показателями (глюкозой, альбумином, общим холестерином, ЩФ, креатинином, общим кальцием, фосфором).
Для установления силы связи между МПК и иммунологическими и биохимическими маркерами выполнен линейный регрессионный анализ (табл. 6).
Таблица 6. Однофакторная линейная регрессия между иммунологическими и биохимическими маркерами и МПК у женщин с РА в постменопаузе (р<0,05)
Table 6. Univariate linear regression between immunological and biochemical markers and bone mineral density in postmenopausal women with RA (p<0.05)
Параметр | СРБ | АЦЦП | ИЛ-6 | ПТГ | Адипонектин | Лептин |
МПКLI–LIV: | ||||||
β | -0,18 | – | – | -0,22 | -0,36 | 0,35 |
SEE* | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
МПКШБ: | ||||||
β | -0,23 | -0,21 | 0,37 | -0,35 | – | 0,32 |
SEE* | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | |
МПКПОБ: | ||||||
β | -0,22 | -0,24 | – | -0,30 | -0,28 | 0,42 |
SEE* | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | |
*SEE (standard error of estimate) – стандартная ошибка оценки.
Для каждого из выявленных факторов также проведен линейный регрессионный анализ с включением в качестве кофакторов возраста, длительности постменопаузы и ИМТ, при этом статистическая значимость сохранилась для всех маркеров, представленных в табл. 6, следовательно, все они независимо связаны с МПК отдельных областей измерения.
Обсуждение
Наибольший интерес в настоящее время вызывает изучение связи МПК с цитокинами как менее изученными факторами, потенциально влияющими на костную ткань. В то же время проводятся исследования с известными гуморальными маркерами в более узких группах, сформированных в зависимости от возраста и пола, фертильного статуса женщин, а также от наличия того или иного хронического заболевания. Мы обследовали женщин в постменопаузе с РА.
Результаты проведенного исследования не выявили различий по величине уровня большинства рутинных биохимических показателей, в том числе фосфорно-кальциевого обмена и 25(ОН)D в зависимости от наличия ОП, что может быть связано с назначением большинству пациенток с РА препаратов кальция и витамина D3. Мы обнаружили, что у лиц с ОП показатели сывороточного альбумина были меньше, чем у женщин без ОП (р=0,036). В работе Y. Nagayama с соавт. при обследовании 197 женщин в постменопаузе с РА установлено, что низкая сывороточная концентрация альбумина независимо и значимо ассоциировалась с риском ОП (отношение шансов 4,54, 95% доверительный интервал 1,64–12,50; р=0,003) [11].
Несмотря на отсутствие различий по частоте серопозитивности по АЦЦП между группами пациенток с ОП и без такового его уровень был больше у лиц с ОП (р=0,039). Отмечена также и более высокая концентрация СРБ (р=0,048) при наличии ОП. При проведении регрессионного анализа выявлена ассоциация между АЦЦП и МПК в ШБ и ПОБ. Аналогично в работе A. Ketabforoush с соавт. при обследовании 300 пациентов с длительностью РА не более 1 года оказалось, что у лиц с ОП или остеопенией значимо чаще выявлялся повышенный уровень СРБ и позитивность по АЦЦП по сравнению с пациентами с нормальной величиной МПК [12].
У пациенток с ОП выявлены более высокие концентрации рецепторов к ИЛ-6 и ФНО SF12 по сравнению с лицами без ОП (р=0,014 и 0,015 соответственно). Однако уровень ИЛ-6 не различался между группами в зависимости от наличия ОП. В то же время в корреляционном анализе, напротив, выявлена положительная ассоциация МПК с ИЛ-6, а связь с уровнем рецепторов к ИЛ-6 отсутствовала. В настоящее время результаты работ о влиянии ИЛ-6 на состояние костной ткани достаточно противоречивы. Например, в эксперименте Y. Moritani с соавт. показали, что в состоянии дефицита ИЛ-6 усиливалась активность как остеобластов, так и остеокластов и наблюдалось ухудшение минерализации костной ткани на мышиной модели [13]. Z. Huang с соавт. по результатам исследования MIDUS II (Midlife in the United States) отметили ассоциацию концентрации рецепторов к ИЛ-6 с величиной МПК в ШБ и отсутствие взаимосвязи с уровнем ИЛ-6 [14]. В исследовании J. Qiu и соавт. уровень ИЛ-6 у пациентов с РА, имевших ОП, был значимо больше, чем у больных без ОП [15].
Ни у одной из обследованных нами пациенток не зафиксирован повышенный уровень ПТГ, тем не менее его сывороточная концентрация была значимо выше у женщин с ОП, обратная корреляция с МПК установлена для всех областей измерения, а регрессионный анализ подтвердил независимую связь с МПК ШБ и ПОБ. Сходные данные по различиям в уровне ПТГ в зависимости от наличия ОП получены и в других исследованиях как в популяции, так и у лиц с РА [16, 17].
У женщин с РА имелась значимая прямая корреляционная связь между МПК во всех областях измерения с уровнем лептина, а обратная ассоциация с адипонектином – только в области LI–LIV. Подобные результаты представлены в метаанализе S. Lee и соавт., проведенном по данным исследований среди женщин в постменопаузе [18]. В исследовании Л.Г. Угай с соавт. выявлена прямая связь между содержанием лептина и МПК в LI–LIV и ШБ и обратная связь между МПК в этих областях и уровнем адипонектина [19]. Кроме того, в указанной работе отмечены различия в уровнях адипокинов в группе пациентов с ОП: более высокий уровень адипонектина и более низкий уровень лептина по сравнению с лицами без ОП. В нашем исследовании также женщины с ОП имели значимо более высокое содержание сывороточного адипонектина, чем пациентки без ОП. В то же время мы не выявили различий по уровню лептина в зависимости от наличия ОП.
В исследовании П.А. Птичкиной с соавт. выявленные ассоциации адипонектина с МПК в ШБ и ПОБ не подтвердились при проведении регрессионного анализа, а связь лептина и МПК как в LI–LIV, так и в ПОБ осталась статистически значимой [20], что позволило предположить, что влияние жировой массы на костную ткань опосредовано через продукцию лептина. X. Gong с соавт. изучали связь содержания лептина c ОП в китайской когорте больных РА. У пациентов с остеопенией или ОП уровень лептина значимо отличался от показателей у лиц с нормальной МПК. Логистический регрессионный анализ показал, что повышенный уровень лептина был фактором риска наличия ОП (p<0,001) [21]. Мы также подтвердили в регрессионном анализе значимую связь лептина с МПК во всех областях измерения, в том числе с поправкой на возраст, ИМТ и длительность постменопаузы.
Заключение
Проведенное исследование связи биохимических и иммунологических маркеров и костной ткани у женщин с РА продемонстрировало, что на МПК независимо от возраста, ИМТ и длительности постменопаузы оказывали влияние СРБ, АЦЦП, ИЛ-6, ПТГ, адипонектин и лептин. В связи с неоднозначностью полученных результатов требуется продолжение исследований.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Исследование было поддержано правительством. Госзадание №1021051403074-2 «Разработка междисциплинарной персонализированной модели оказания помощи пациентам с аутовоспалительными дегенеративными заболеваниями (остеоартрит, остеопороз, саркопения, подагра, пирофосфатная артропатия) и мультиморбидностью (ожирение, сердечно-сосудистые заболевания)».
Funding source. The study was supported by the Government. State Assignment No. 1021051403074-2 "Development of an interdisciplinary personalized model of care for patients with autoinflammatory degenerative diseases (osteoarthritis, osteoporosis, sarcopenia, gout, pyrophosphate arthropathy) and multimorbidity (obesity, cardiovascular diseases)."
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования был одобрен локальным комитетом по этике ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой». Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской конвенции.
Ethics approval. The study was approved by the local ethics committee of Nasonova Research Institute of Rheumatology. The approval and procedure for the protocol were obtained in accordance with the principles of the Helsinki Convention.
About the authors
Olga V. Dobrovolskaya
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Author for correspondence.
Email: olgavdobr@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2809-0197
Scopus Author ID: 57197823569
кандидат мед. наук, науч. сотрудник лаб. остеопороза
Russian Federation, MoscowNikolay V. Demin
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Email: deminick@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-0961-9785
Scopus Author ID: 7006802179
младший научный сотрудник лаб. остеопороза
Russian Federation, MoscowMaria V. Kozyreva
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Email: doginya@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0560-3495
младший научный сотрудник лаб. остеопороза
Russian Federation, MoscowElena Yu. Samarkina
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Email: samarkinale@list.ru
ORCID iD: 0000-0001-7501-9185
младший научный сотрудник лаб. иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний
Russian Federation, MoscowMichail E. Diatroptov
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Email: diatrom@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-6404-0042
Scopus Author ID: 8960133600
доктор биол. наук, ст. науч. сотр. лаб. иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний
Russian Federation, MoscowNatalia V. Toroptsova
Nasonova Research Institute of Rheumatology
Email: torop@irramn.ru
ORCID iD: 0000-0003-4739-4302
Scopus Author ID: 6507457856
доктор мед. наук, зав. лаб. остеопороза
Russian Federation, MoscowReferences
- Premaor MO, Pilbrow L, Tonkin C, et al. Obesity and fractures in postmenopausal women. J Bone Miner Res. 2010;25(2):292-7. doi: 10.1359/jbmr.091004
- Crowson CS, Matteson EL, Davis JM 3rd, Gabriel SE. Contribution of obesity to the rise in incidence of rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(1):71-7. doi: 10.1002/acr.21660
- Ko DS, Kim YH, Goh TS, Lee JS. Altered physiology of mesenchymal stem cells in the pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. World J Clin Cases. 2020;8(11):2102-10. doi: 10.12998/wjcc.v8.i11.2102
- Aguirre L, Napoli N, Waters D, et al. Increasing adiposity is associated with higher adipokine levels and lower bone mineral density in obese older adults. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(9):3290-7. doi: 10.1210/jc.2013-3200
- Lee S, Kim JH, Jeon YK, et al. Effect of adipokine and ghrelin levels on BMD and fracture risk: an updated systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1044039. doi: 10.3389/fendo.2023.1044039
- Mangion D, Pace NP, Formosa MM. The relationship between adipokine levels and bone mass – A systematic review. Endocrinol Diabetes Metab. 2023;6(3):e408. doi: 10.1002/edm2.408
- Dankbar B, Fennen M, Brunert D, et al. Myostatin is a direct regulator of osteoclast differentiation and its inhibition reduces inflammatory joint destruction in mice. Nat Med. 2015;21(9):1085-90. doi: 10.1038/nm.3917
- Solomon DH, Finkelstein JS, Shadick N, et al. The relationship between focal erosions and generalized osteoporosis in postmenopausal women with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2009;60(6):1624-31. doi: 10.1002/art.24551
- Van der Goes MC, Jacobs JW, Jurgens MS, et al. Are changes in bone mineral density different between groups of early rheumatoid arthritis patients treated according to a tight control strategy with or without prednisone if osteoporosis prophylaxis is applied? Osteoporos Int. 2013;24(4):1429-36. doi: 10.1007/s00198-012-2073-z
- Hauser B, Harre U. The role of autoantibodies in bone metabolism and bone loss. Calcif Tissue Int. 2018;102(5):522-32. doi: 10.1007/s00223-017-0370-4
- Nagayama Y, Ebina K, Tsuboi H, et al. Low serum albumin concentration is associated with increased risk of osteoporosis in postmenopausal patients with rheumatoid arthritis. J Orthop Sci. 2022;27(6):1283-90. doi: 10.1016/j.jos.2021.08.018
- Ketabforoush AHME, Aleahmad M, Qorbani M, et al. Bone mineral density status in patients with recent-onset rheumatoid arthritis. J Diabetes Metab Disord. 2023;22(1):775-85. doi: 10.1007/s40200-023-01200-w
- Moritani Y, Hasegawa T, Yamamoto T, et al. Histochemical assessment of accelerated bone remodeling and reduced mineralization in Il-6 deficient mice. J Oral Biosci. 2022;64(4):410-21. doi: 10.1016/j.job.2022.10.001
- Huang Z, Xu Z, Wan R, et al. Associations between blood inflammatory markers and bone mineral density and strength in the femoral neck: findings from the MIDUS II study. Sci Rep. 2023;13(1):10662. doi: 10.1038/s41598-023-37377-6
- Qiu J, Lu C, Zhang L, et al. Osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis is associated with serum immune regulatory cellular factors. Clin Rheumatol. 2022;41(9):2685-93. doi: 10.1007/s10067-022-06212-0
- Kota S, Jammula S, Kota S, et al. Correlation of vitamin D, bone mineral density and parathyroid hormone levels in adults with low bone density. Indian J Orthop. 2013;47(4):402-7. doi: 10.4103/0019-5413.114932
- Tan LM, Long TT, Guan XL, et al. Diagnostic value of vitamin D status and bone turnover markers in rheumatoid arthritis complicated by osteoporosis. Ann Clin Lab Sci. 2018;48(2):197-204. PMID: 29678847
- Lee S, Kim JH, Jeon YK, et al. Effect of adipokine and ghrelin levels on BMD and fracture risk: an updated systematic review and meta-analysis. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1044039. doi: 10.3389/fendo.2023.1044039
- Угай Л.Г., Невзорова В.А., Кочеткова Е.А., и др. Состояние адипокиновой регуляции и эндотелиальной дисфункции у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких c различной минеральной плотностью костной ткани. Пульмонология. 2015;25(5):517-23 [Ugay LG, Nevzorova VA, Kochetkova EA, et al. Аdipokine regulation and endothelial dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease and different bone mineral density. Pulmonologiya. 2015;25(5):517-23 (in Russian)]. doi: 10.18093/0869-0189-2015-25-5-517-523
- Птичкина П.А., Скрипникова И.А., Новиков В.Е., и др. Композитный состав тела, костная масса и адипокины у женщин в постменопаузе с разным кардиоваскулярным риском (SCORE). Остеопороз и остеопатии. 2012;15(1):3-6 [Ptichkina PA, Skripnikova IA, Novikov VE, et al. Body composition, bone mass and adipokines in postmenopausal women with different cardiovascular risk (SCORE). Osteoporosis and Bone Diseases. 2012;15(1):3-6 (in Russian)]. doi: 10.14341/osteo201213-6
- Gong X, Tang Y, Yu SS, et al. Elevated serum leptin may be associated with disease activity and secondary osteoporosis in Chinese patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2023;42(12):3333-40. doi: 10.1007/s10067-023-06725-2
Supplementary files