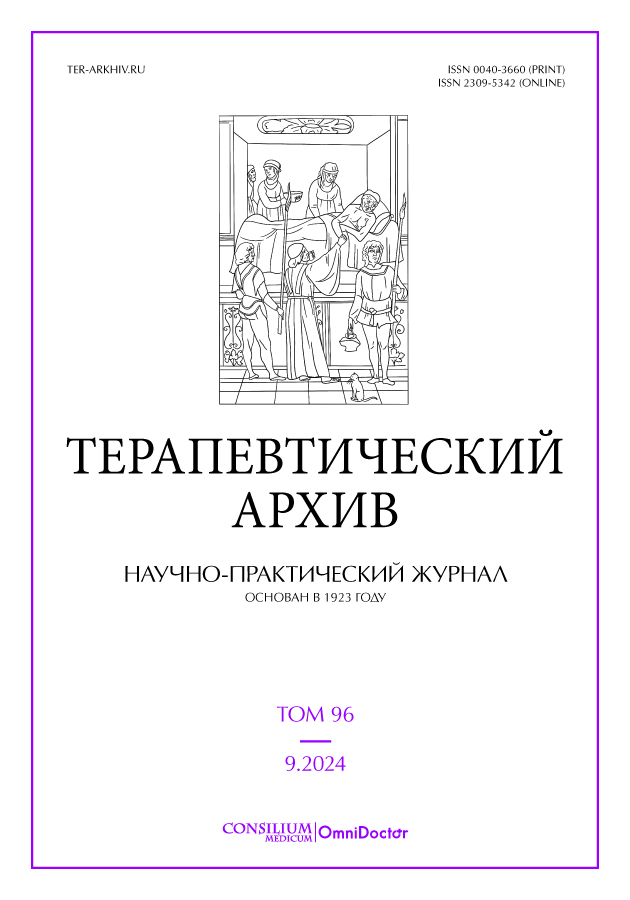A clinical case of reverse left ventricular remodeling in patient with pathogenic TTN mutation. Case report
- 作者: Nasonova S.N.1, Meshkov A.N.1,2, Zhirov I.V.1, Osmolovskaya Y.F.1, Shoshina A.A.1, Gagloev A.V.1, Dzhumaniiazova I.H.3, Zelenova E.A.3, Erema V.V.3, Gusakova M.S.3, Ivanov M.V.3, Terekhov M.V.3, Kashtanova D.A.3, Nekrasova A.I.3, Mitrofanov S.I.3, Shingaliev A.S.3, Yudin V.S.3, Keskinov A.A.3, Gomyranova N.V.1, Chubykina U.V.1, Ezhov M.V.1, Tereshchenko S.N.1, Yudin S.M.3, Boytsov S.A.1
-
隶属关系:
- Chazov National Medical Research Center of Cardiology
- National Research Center for Therapy and Preventive Medicine
- Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
- 期: 卷 96, 编号 9 (2024): Issues of cardiology
- 页面: 901-908
- 栏目: Clinical notes
- ##submission.dateSubmitted##: 22.07.2024
- ##submission.dateAccepted##: 22.07.2024
- ##submission.datePublished##: 10.10.2024
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/634502
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2024.09.202852
- ID: 634502
如何引用文章
全文:
详细
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a leading cause of heart failure, sudden cardiac death, and heart transplantation in young patients. The causes of DCM are varied and include genetic factors and metabolic, infectious, toxic and others factors. Today it is known that germline mutations in more than 98 genes can be associated with the occurrence of DCM. However, the penetrance of these genes often depends on a combination of factors, including modifiable ones, i.e. those that change under the influence of the environment. About 20–25% of genetically determined forms of DCM are due to mutations in the titin gene (TTN). Titin is the largest protein in the body, which is an important component of the sarcomer. Although titin is the largest protein in the human body, its role in the physiology of heart and disease is not yet fully understood. However, a mutation in the TTN gene may later represent a potential therapeutic target for genetic and acquired cardiomyopathy. Thus, the analysis of clinical cases of cardiomyopathy in patients with identified mutations in the TTN gene is of great scientific interest. The article presents a clinical case of manifestation of DCM in patient with a revealed pathogenic variant of mutation in the gene TTN and reverse left ventricular remodeling of the against the background of optimal therapy of heart failure in a subsequent outpatient observation.
全文:
Список сокращений
ВЗ – венозный застой
ДКМП – дилатационная кардиомиопатия
КДО – конечный диастолический объем
КС – клинический случай
КСО – конечный систолический объем
КТ – компьютерная томография
ЛЖ – левый желудочек
ЛП – левое предсердие
МРТ – магнитно-резонансная томография
НКМП – недилатационная кардиомиопатия
НРС – нарушение ритма сердца
ОРЛЖ – обратное ремоделирование левого желудочка
ПГС – полногеномное секвенирование
СН – сердечная недостаточность
СР – синусовый ритм
СС – сократительная способность
ФВ – фракция выброса
ФН – физическая нагрузка
ФП – фибрилляция предсердий
ХСН – хроническая сердечная недостаточность
ЧСС – частота сердечных сокращений
ЭКГ – электрокардиография
ЭхоКГ – эхокардиография
ACMG (American College of Medical Genetics and Genomic) – Американская коллегия медицинской генетики и геномики
COVID-19 – новая коронавирусная инфекция
TTN – ген титина
Введение
Одной из основных причин сердечной недостаточности (СН), внезапной смерти и трансплантации сердца у людей молодого возраста является дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Этиология формирования фенотипа ДКМП многообразна и включает генетические причины, прямое повреждение миокарда инфекционными или токсическими агентами, эндокринные и метаболические нарушения, тахиаритмии, иммуноопосредованные процессы и перипартальную кардиомиопатию, среди которых около 1/2 случаев составляют наследственные факторы [1]. С появлением секвенирования нового поколения описаны герминальные мутации более чем в 98 генах, вызывающих ДКМП [2]. В то же время реализация патогенного потенциала происходит под влиянием сложной совокупности модифицирующих факторов, среди которых наследственными являются эпигенетические модификации генома, а в качестве приобретенных могут выступать беременность, артериальная гипертония, чрезмерное употребление алкоголя и воздействие других токсинов [3–5].
Из известных генетических мутаций, вызывающих ДКМП, наиболее распространены мутации в гене титина (TTN), на которые приходится 20–25% случаев всех генетически обусловленных форм заболевания [6]. TTN – самый большой белок в организме, который является важным компонентом саркомера. TTN кодируется 364 экзонами гена TTN, которые продуцируют белок длиной 27 000–33 000 аминокислот с молекулярной массой 2900–3800 кДа [7, 8]. Он служит соединением Z-диска с М-линией саркомера и выполняет, соответственно, каркасные и сигнальные функции. Мутации в гене TTN приводят к развитию различных кардиомиопатий, но чаще всего к ДКМП. Вместе с тем следует отметить, что у 2–3% населения, не имеющего явных заболеваний на момент обследования, обнаруживаются мутации в гене TTN [9–11]. TTN относится к генам группы FLAGS (frequently mutated genes – «часто мутирующие гены») [12]. При этом наиболее частыми генетическими дефектами являются варианты, укорачивающие белок гена TTN (TTNtv) [10]. Предполагается, что и другие механизмы могут оказывать влияние на сердечную функцию, например изменения в фосфорилировании TTN влияют на жесткость белка, а альтернативный сплайсинг приводит к синтезу различных изоформ TTN.
Несмотря на то, что TTN является крупнейшим белком в организме человека, его роль в физиологии сердца и патогенезе заболеваний еще полностью не изучена. Изменения в гене TTN могут в дальнейшем стать потенциальными терапевтическими мишенями для лечения генетических и приобретенных кардиомиопатий. Следовательно, анализ клинических случаев (КС) развития кардиомиопатий у пациентов с выявленными мутациями в гене TTN представляет большой научный интерес.
Клинический случай
Пациент Л., 46 лет. Первые жалобы появились в возрасте 34 лет. 11.12.2009 впервые выявлено нарушение ритма – пароксизм фибрилляции предсердий (ФП), синусовый ритм (СР) восстановился самостоятельно. По данным проведенной эхокардиографии (ЭхоКГ) сократительная способность (СС) миокарда левого желудочка (ЛЖ) сохранена. Клинически значимой патологии не выявлено. В течение 3 мес после пароксизма получал терапию β-блокатором, а затем самостоятельно прекратил лечение по причине хорошего самочувствия. В последующие годы постоянного лечения не получал, врачами не наблюдался, приступы были очень редкими, короткими, купировались самостоятельно и субъективно хорошо переносились пациентом. 13.01.2022 появились «неприятные ощущения в области сердца», общая слабость и недомогание, однако как такового учащенного неритмичного сердцебиения больной не ощущал. 21.01.2022 обратился за медицинской помощью. При проведении электрокардиографии (ЭКГ) зафиксирована ФП. Пациента госпитализировали по месту жительства. Больному проводили ритмурежающую терапию, впервые по данным ЭхоКГ отмечено снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ до 35%. Через 5 дней после выписки из стационара почувствовал слабость, появились одышка при физической нагрузке – ФН (подъем на 3-й этаж), субфебрильная температура. Самостоятельно обратился к участковому терапевту. 26.01.2022 выполнена компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки, которая показала наличие вирусной пневмонии КТ-1. Госпитализирован в госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). При поступлении обнаружены гидроторакс, венозный застой (ВЗ) в легких. Тогда же повторно выполнена ЭхоКГ: левое предсердие (ЛП) – 40 мм, правое предсердие – 41 мм, правый желудочек – 31 мм, конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ – 140 мл, конечный систолический объем (КСО) ЛЖ – 85 мл, ФВ – 38%, обнаружены диффузный гипокинез стенок ЛЖ, парадоксальное движение межжелудочковой перегородки, повышенная трабекулярность стенок ЛЖ, незначительный выпот в полости перикарда, выпот в плевральных полостях. Проведено консервативное лечение. Выписан 31.01.2022, назначена амбулаторная терапия: ривароксабан 20 мг/сут, метопролол 50 мг 2 раза в день, спиронолактон 25 мг/сут, лозартан 12,5 мг/сут, торасемид 10 мг/сут. Выписан с положительной динамикой. Через 1 нед после выписки из стационара состояние постепенно ухудшалось, снижалась толерантность к ФН, что стало причиной обращения в ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова» (рис. 1).
Рис. 1. Анамнез заболевания пациента Л.
Fig. 1. Patient L. medical history.
При поступлении обнаружены явления декомпенсации хронической СН (ХСН) по малому и большому кругам кровообращения, в частности: умеренные отеки нижних конечностей до нижней 1/3 голеней с обеих сторон; по данным рентгенологического исследования органов грудной клетки – ВЗ II стадии, двустороннее небольшое количество выпота в синусах; при ультразвуковом исследовании – признаки ВЗ в системе нижней полой вены, свободная жидкость в правой плевральной полости, которые потребовали проведения активной мочегонной терапии фуросемидом 40 мг внутривенно.
По данным лабораторных исследований у пациента при поступлении обращал на себя внимание повышенный уровень мозгового натрийуретического гормона (до 5060 пг/мл), общего билирубина (до 55,8 мкмоль/л), мочевой кислоты (до 522,6 мкмоль/л), в остальном показатели (в том числе уровни гормонов щитовидной железы, высокочувствительного тропонина и С-реактивного белка) находились в пределах нормальных значений.
На ЭКГ выявлена ФП с максимальной частотой сердечных сокращений (ЧСС) 178 уд/мин, средняя ЧСС – 131 уд/мин. Нормальное положение электрической оси сердца. Диффузные изменения миокарда (рис. 2).
Рис. 2. ЭКГ пациента Л.
Fig. 2. ECG of patient L.
Проведение ЭхоКГ при поступлении было затруднено по причине выраженной тахисистолии. Тем не менее при анализе данных ЭхоКГ выявлены расширение всех камер сердца, преимущественно левых отделов, и значительное диффузное снижение глобальной сократительной функции ЛЖ. Четких зон нарушения локальной сократимости ЛЖ не выявлено. Обнаружены нарушение диастолической функции ЛЖ с признаками повышения давления наполнения, регургитация митрального клапана 2-й степени, регургитация трискупидального клапана 2–3-й степени, легочная гипертензия 2-й степени, признаки высокого центрального венозного давления. Обращала на себя внимание повышенная трабекулярность верхушки ЛЖ, апикального и среднего сегментов боковой стенки, отношение некомпактного слоя миокарда к компактному слою ~2,0–2,2 с учетом затрудненной визуализации верхушки ЛЖ.
По данным холтеровского мониторирования ЭКГ при терапии метапрололом 100 мг/сут регистрировалась ФП со средней частотой сокращения желудочков 95 уд/мин (минимально – 70 уд/мин в 07:02, максимально – 151 уд/мин в 14:21). Выявлено 940 одиночных и 46 куплетов желудочковых экстрасистол, часть комплексов с аберрацией внутрижелудочкового проведения, 6 коротких пробежек желудочковой тахикардии (3–9 комплексов) с максимальной частотой сокращения желудочков 197 уд/мин в 17:38, 2 паузы продолжительностью более 2,0 с, максимальный относительный риск – 2,1 с в 06:29. Ишемической динамики сегмента ST не зарегистрировано.
Таким образом, первоначально сложилось следующее суждение: пациент молодого возраста, без вредных привычек, профессиональных вредностей. Семейный анамнез: мать страдает артериальной гипертензией, отец трагически погиб в возрасте 54 лет. Длительность имеющегося пароксизма точно была неизвестна, поскольку жалоб на неритмичное сердцебиение больной не предъявлял. При анализе имеющихся ЭКГ с 2009 г. сделано заключение об отсутствии СР и наличии ФП. Не исключено, что СР так и не восстанавливался, хотя общее самочувствие пациента было удовлетворительным. Впервые снижение ФВ ЛЖ зафиксировано через 3 мес от момента обращения в ФГБУ «НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова», причем по данным предыдущих ЭхоКГ расширение полостей сердца было весьма незначительным. Вероятнее всего, длительно существующая тахиформа ФП привела к расширению полостей сердца и снижению ФВ ЛЖ. На фоне СОVID-19 произошла декомпенсация ХСН. Вынесен диагноз ДКМП, ХСН со значительно сниженной ФВ на фоне персистирующей формы ФП. С учетом неудовлетворительного контроля за ЧСС (метопролол 100 мг/сут), склонности к гипотонии принято решение о попытке восстановления и удержания СР. Учитывая длительность ФП, с целью увеличения шансов на восстановление и удержание СР врачи инициировали антиаритмическую терапию амиодароном. После проведенной чреспищеводной ЭхоКГ под внутривенной анестезией разрядом дефибриллятора 150 кДж восстановлен СР с ЧСС 80 уд/мин (рис. 3).
Рис. 3. ЭКГ пациента Л. после восстановления СР.
Fig. 3. ECG of patient L. after sinus rhythm recovery.
Следует отметить, что после восстановления СР самочувствие пациента улучшилось: уменьшилась степень выраженности одышки, возросла толерантность к ФН.
После восстановления СР и достижения нормосистолии с целью уточнения диагноза проведено дообследование. По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца с контрастированием выявлены: очаговое поражение миокарда передней стенки ЛЖ ишемического генеза, МР-признаки некомпактного миокарда ЛЖ (толщина компактного слоя миокарда снижена до 4–5 мм, толщина некомпактного слоя – 12–16 мм; соотношение слоев – 1:3–4; повышение трабекулярности миокарда боковой стенки ЛЖ в среднем и апикальном сегментах, в систолу, не достигающее критериев диагноза «некомпактный миокард»; повышенная трабекулярность миокарда верхушки ПЖ); расширение полости ЛП; снижение сократимости миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 29%); гидроперикард; двусторонний гидроторакс. МР-признаков острого миокардита не обнаружено. Принимая во внимание выявленное очаговое поражение миокарда передней стенки ЛЖ, врачи выполнили коронароангиографию, по данным которой коронарные артерии представлялись интактными.
Пациент выписан из стационара, назначены: амбулаторная терапия ХСН (периндоприл 2 мг, бисопролол 2,5 мг, дапаглифлозин 10 мг, спиронолактон 25 мг), терапия для удержания эуволемического статуса петлевым диуретиком – торасемидом 10 мг/сут. Ввиду склонности к гипотонии (80/68–85/65 мм рт. ст.) не представлялось возможным перевести больного на прием ингибитора ангиотензиновых рецепторов и неприлизина. С целью профилактики тромбоэмболических осложнений рекомендована терапия ривароксабаном 20 мг/сут, а для удержания СР – амиодарон 200 мг/сут. В дальнейшем ввиду появившегося сухого кашля периндоприл заменен на кандесартан 8 мг.
Генетическое обследование
С целью исключения первичного характера ДКМП пациенту проведено полногеномное секвенирование (ПГС). Проанализированы 154 гена, связанные с наследственными формами сердечно-сосудистой патологии, в том числе с моногенными кардиомиопатиями [13].
Полногеномное секвенирование
ДНК выделяли из образцов цельной крови при помощи набора QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Германия). Подготовку библиотек полногеномных последовательностей проводили при помощи набора Nextera DNA Flex (Illumina, США) в соответствии с инструкциями производителя. Образцы секвенировали с длиной прочтения 150 п.о. и не менее чем 30-кратным покрытием. Выравнивание на референсный геном (GRCh38) проводили на платформе Dragen Bio-IT (Illumina, США), а определение вариантов – на Strelka2 [14].
Клиническая интерпретация патогенности выявленных вариантов
Использовали полуавтоматический вариант аннотации с опорой на базу данных ClinVar и автоматический интерпретатор InterVar (версия от 27.07.2021). Данный интерпретатор обеспечивает 18 вызовов критериев рекомендаций Американской коллегии медицинской генетики и геномики (American College of Medical Genetics and Genomics – ACMG), в частности PVS1, PS1, PS4, PM1, PM2, PM4, PM5, PP2, PP3, PP5, BA1, BS1, BS2, BP1, BP3, BP4, BP6 и BP7, из 28. Дополнительная фильтрация включала фильтрацию по количеству альтернативных и референсных аллелей каждого варианта из результатов ПГС – суммарно должно было быть не менее 30, 15 и более аллелей референсного и альтернативного значения.
Конечную интерпретацию вариантов осуществляли на основании интерпретации InterVar, базы данных ClinVar, а также информации из литературных источников. В анализ включали только патогенные или вероятно патогенные варианты по классификации ACMG 2015 г. [15].
Полученные результаты
У пациента выявлен патогенный вариант в гене TTN, который соотносится с областью А-полосы белка (A-band region): Chr2:178570882_G/A; NM_001267550.2: exon326:c.C75250T:p.R25084X; rs794729286. Других патогенных или вероятно патогенных вариантов в изучаемых генах не выявлено. Данный вариант приводит к укорочению белка TTN и ассоциирован с развитием ДКМП (рис. 4).
Рис. 4. Схема генетического обследования и положение выявленного варианта в гене TTN.
Fig. 4. The scheme of genetic examination and the position of the identified variant in the TTN gene.
Данные динамического наблюдения
С целью динамического наблюдения и определения дальнейшей тактики ведения пациента пригласили на визит через 3 мес, однако по семейным обстоятельствам он прибыл через 5 мес. На визите больной сообщил, что чувствует себя здоровым, одышка не беспокоит, нарушения ритма не рецидивировали, при активном самоконтроле «срывов пульса» не отмечал. По данным тонометра артериальное давление и ЧСС оставались стабильными – 110/70 мм рт. ст. и 60–68 уд/мин соответственно. По данным клинико-инструментальных методов обследования отмечена положительная динамика на фоне проводимого лечения и стойкого удержания СР. На момент осмотра признаков декомпенсации СН не обнаружено. Отмечено снижение в динамике мозгового натрийуретического гормона до 108,9 пг/мл. Данные контрольной ЭхоКГ представлены в сравнительной табл. 1.
Таблица 1. Сравнение данных ЭхоКГ
Table 1. Comparison of echocardiography findings
Данные диагностики ЭхоКГ | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 23.08.2022 |
ЛП, см | 4,3 | 4,3 | 3,2 |
Апикально, см | 6,1×4,6 | – | – |
Объем ЛП, мл | 98 | 96 | 44 |
КДР ЛЖ / КДО ЛЖ, см/мл | 6,2/158 | 6,0/170 | 5,0/95 |
КСР ЛЖ / КСО ЛЖ, см/мл | 5,2/121 | 5,3/121 | 3,5/43 |
Индекс КДО ЛЖ, мл/м2 | 85,9 | – | 51,6 |
Индекс КСО ЛЖ, мл/м2 | 65,8 | – | 23,4 |
ФВ ЛЖ, % | 23–24 | 28–29 | 55 |
ТМЖП, см | 0,7 | 0,7 | 0,8–0,9 |
ТЗСЛЖ, см | 0,7 | 0,7 | 0,8–0,9 |
Площадь ПП, см2 | 18,5 | – | 13 |
ПЖ, см | 2,9 | – | 2,5 |
Нижняя полая вена, см | 2,5/1,8 коллабирует <50% | 2,1/1,5 коллабирует | Не расширена |
СДЛА, мм рт. ст | 55 | 35–37 | 27 |
Недостаточность МК, степень | 2 | 2 | 1 |
Недостаточность ТК, степень | 3 | 2 | 1 |
Показатели диастолической функции ЛЖ по ТМД, см/с | |||
Em l | 96 | 10 | |
Em s | 4 | 6–7 | |
E/Em | 24 | 24 | |
Примечание. КДР – конечный диастолический размер, КСР – конечный систолический размер, МК – митральный клапан, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, ТК – трискупидальный клапан, ТМД – тканевая миокардиальная допплерография, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки.
Обсуждение
В настоящее время механизмы, приводящие к формированию фенотипа кардиомиопатии у пациентов с мутациями в гене TTN, до конца не известны [16–18]. Большая роль уделяется дополнительным факторам-модификаторам заболевания. Кроме того, не ясен и генез обратного ремоделирования ЛЖ (ОРЛЖ) у пациентов с ДКМП и выявленной мутацией в гене TTN [19, 20]. Под ОРЛЖ понимают абсолютное увеличение ФВ ЛЖ≥10% или нормализацию (ФВ ЛЖ≥55%) систолической функции после начала лечения СН. У пациента восстановление ФВ ЛЖ произошло в первые полгода с момента манифеста явлений СН, ФВ увеличилась с 23 до 55%. Нормализация камер сердца и ФВ ЛЖ отмечена во многих клинических исследованиях. Например, C. Vissing и соавт. (2021 г.) выявили критерии обратного ремоделирования у 58% пациентов, причем контрольное исследование выполнено в среднем через 6 лет, обнаружили улучшение ФВ ЛЖ – с 28±13% до 39±16% (р<0,0001) [21]. M. Akhtar и соавт. (2020 г.) выявили ОРЛЖ у 69% пациентов с TTN-ДКМП. Интересен тот факт, что у 39% пациентов с исходным ОРЛЖ в последующем наблюдали повторное снижение ФВ ЛЖ. Исследователи сообщают о том, что местоположение мутации TTN не было связано со статистически значимыми различиями в обратном ремоделировании ЛЖ [22]. Кроме того, следует отметить, что течение ДКМП, обусловленной мутацией в гене TTN, является более благоприятным по сравнению с ДКМП, обусловленной мутациями в иных генах [19, 20, 23]. Однако следует учитывать и тот факт, что при сравнении частоты ОРЛЖ среди пациентов с более доброкачественными и злокачественными генотипами ДКМП значимых различий не выявлено (39,6% против 46,2%; р=0,047) [24].
Заболевание у пациента манифестировало в 34-летнем возрасте с нарушения ритма сердца (пароксизма ФП), причем сохранялась СС миокарда ЛЖ, проявлений СН не было. Такое начало характерно для TTN-КМП и было описано ранее. Распространенность ФП в исследовании C. Vissing и соавт. (2021 г.) составила 43%, что почти в 2 раза выше, чем сообщалось в работе U. Tayal и соавт. (2017 г.) [21, 25]. Следует отметить, что нарушения ритма сердца (НРС) при TTN-ДКМП встречаются в несколько раз чаще, чем в общей популяции пациентов с ДКМП [26–28]. Особенно примечателен тот факт, что у 23% больных ФП развивалась до или одновременно с установлением диагнозом ДКМП, что подчеркивает факт связи наличия мутации TTN с риском раннего начала ФП [29, 30]. У пациентов с TTN-мутациями могут встречаться и желудочковые нарушения ритма [21], однако их злокачественное течение возникает у больных с тяжелой систолической дисфункцией.
Возвращаясь к приведенному клиническому наблюдению, следует обратить внимание на то, что частота пароксизмов и длительность персистирующего варианта ФП неизвестны, поскольку для больного НРС были малосимптомны, никакой медикаментозной терапии длительное время он не получал. Можно предположить, что в данном случае имела место кардиомиопатия, индуцированная аритмией, при которой систолическая дисфункция ЛЖ провоцируется тахикардией или НРС. Особым аспектом данного вида КМП является обратное ремоделирование ЛЖ после устранения аритмии, что и наблюдалось у нашего пациента. Исследования миокарда желудочков человека демонстрируют, что различные клеточные структурные и функциональные механизмы активируются даже при нормосистолическом варианте ФП [31]. Соответственно, в данном случае ФП может рассматриваться и как следствие клеточных изменений у пациента с мутацией в гене TTN, и как фактор, способствующий вторичному патологическому ремоделированию сердца. Молекулярные механизмы развития аритмии при TTN-индуцированной ДКМП до конца не изучены. Модели на грызунах и рыбках данио [31, 32] демонстрируют развитие диастолической дисфункции и выраженного фиброза как в предсердиях, так и в желудочках, что может служить субстратом как предсердных, так и желудочковых НР [33]. Кроме того, при эндомиокардиальной биопсии пациентов с ДКМП, имеющих варианты, укорачивающие ген TTN, выявлен повышенный интерстициальный фиброз по сравнению с пациентами с ДКМП, вызванными другими причинами [34].
При сборе анамнеза пациента Л. отчетливо прослеживалась хронологическая связь между появлением симптомов развернутой клиники СН и перенесенной COVID-19, что заставило рассматривать миокардит как причину выявленных изменений. Однако тот факт, что НРС возникли задолго до перенесенной инфекции, а также то, что по данным МРТ сердца с контрастированием отсутствовали признаки острого миокардита, а в анализах крови фиксировались нормальные уровни С-реактивного белка и тропонина, поставили под сомнение данный диагноз. Тем не менее перенесенную инфекцию с развитием пневмонии, интоксикацией следует рассматривать как фактор-модификатор болезни у больного с TTN-мутацией.
Еще одним фактом, на который следует обратить внимание, являются структурные особенности миокарда пациента Л. Так, при анализе данных ЭхоКГ и МРТ сердца с контрастированием обращало на себя внимание наличие повышенной трабекулярности миокарда ЛЖ, однако критерии постановки диагноза некомпактного миокарда не достигнуты. При восстановлении ФВ ЛЖ, сокращении полостей приведенная особенность сохранялась, что, вероятно, является одним из проявлений TTN-мутации.
Таким образом, приведенный КС демонстрирует многофакторность в развитии такого заболевания, как ДКМП. Наличие патогенной мутации в гене TTN сделало миокард пациента наиболее уязвимым для таких факторов, как инфекционно-воспалительный процесс, тахисистолический вариант аритмии, что и привело к развитию дилатации камер сердца, снижению СС миокарда ЛЖ и манифесту явлений СН. Вместе с тем, принимая во внимание анамнез заболевания, перенесенная COVID-19, как и любое другое инфекционное заболевание, может быть рассмотрена как дополнительный фактор-модификатор болезни. Следует подчеркнуть, что устранение дополнительных факторов-модификаторов болезни позволило добиться хорошего клинического эффекта (рис. 5).
Рис. 5. Схема развития заболевания.
Fig. 5. Pattern of the disease development.
Согласно последним рекомендациям Европейского общества кардиологов по кардиомиопатиям [35] с фенотипической точки зрения приведенную клиническую ситуацию можно рассматривать как прогрессирование недилатационной кардиомиопатии (НКМП) до ДКМП и обратное развитие от ДКМП к НКМП. Вместе с тем наличие мутации в гене TTN, даже несмотря на обратное ремоделирование ЛЖ и клиническое выздоровление пациента, делает оправданным неопределенно долгое пролонгирование основной терапии ХСН. Приведенный КС показывает необходимость более тщательного обследования молодых пациентов с пароксизмальной формой ФП, которая может казаться на первый взгляд идиопатическим вариантом. Помимо ЭхоКГ необходимо рассматривать проведение МРТ сердца с контрастированием и генетических методов тестирования.
Кроме того, должно быть организовано тщательное диспансерное наблюдение за таким пациентом с целью раннего выявления рецидива заболевания и нарушений ритма. Больного необходимо информировать и о других факторах-модификаторах заболевания, среди которых, например, прием алкоголя, артериальная гипертензия.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом. Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации. Оказание медицинской помощи осуществлялось на основании действующих рекомендаций. Были получены информированное согласие на медицинские процедуры, вмешательства, проведение генетического исследования, обработку персональных данных и публикацию.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee. Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki. The provision of medical care was carried out on the basis of current recommendations. Informed consent was obtained for medical procedures, interventions, genetic research, processing of personal data and publication.
Информированное согласие на публикацию. Пациент подписал форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
作者简介
Svetlana Nasonova
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0920-7417
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowAleksei Meshkov
Chazov National Medical Research Center of Cardiology; National Research Center for Therapy and Preventive Medicine
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5989-6233
доктор медицинских наук, помощник ген. директора по научной и клинической работе НМИЦК им. акад. Е.И. Чазова, рук. Института персонализированной терапии и профилактики ФГБОУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины»
俄罗斯联邦, Moscow; MoscowIgor Zhirov
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4066-2661
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowYulia Osmolovskaya
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7827-2618
кандидат медицинских наук, зав. 8-м кардиологическим отделением, научный сотрудник отд. заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowAnastasiia Shoshina
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9519-7373
аспирант отделения заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowAlan Gagloev
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-0976-9442
врач-ординатор отд. заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowIrina Dzhumaniiazova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5167-2112
аналитик отд. медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowElena Zelenova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowVeronika Erema
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0547-3280
кандидат медицинских наук, аналитик II категории отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowMariia Gusakova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0036-9241
аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowMikhail Ivanov
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
вед. аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowMikhail Terekhov
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0009-0006-4549-7470
аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowDaria Kashtanova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8977-4384
кандидат медицинских наук, вед. аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowAlexsandra Nekrasova
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7951-2003
аналитик I категории отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowSergey Mitrofanov
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0358-0568
нач. отделения системной биологии и биоинформатики
俄罗斯联邦, MoscowAndrey Shingaliev
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-1488-2721
аналитик отделения медицинской геномики
俄罗斯联邦, MoscowVladimir Yudin
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9199-6258
кандидат биологических наук, директор Института синтетической биологии и генной инженерии
俄罗斯联邦, MoscowAnton Keskinov
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7378-983X
кандидат медицинских наук, кандидат экономических наук, зам. ген. директора
俄罗斯联邦, MoscowNataliya Gomyranova
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4500-0904
доктор биол. наук, зав. отделением клинической лабораторной диагностики
俄罗斯联邦, MoscowUliana Chubykina
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2760-2792
кандидат медицинских наук, мл. научный сотрудник лаборатории нарушений липидного обмена
俄罗斯联邦, MoscowMarat Ezhov
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1518-6552
доктор медицинских наук, главный научный сотрудник лаб. нарушений липидного обмена
俄罗斯联邦, MoscowSergey Tereshchenko
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9234-6129
доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
俄罗斯联邦, MoscowSergey Yudin
Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks
编辑信件的主要联系方式.
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7942-8004
доктор медицинских наук, генеральный директор
俄罗斯联邦, MoscowSergey Boytsov
Chazov National Medical Research Center of Cardiology
Email: dr.nasonova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6998-8406
академик РАН доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Pinto YM, Elliott PM, Arbustini E, et al. Proposal for a revised definition of dilated cardiomyopathy, hypokinetic non-dilated cardiomyopathy, and its implications for clinical practice: a position statement of the ESC working group on myocardial and pericardial diseases. Eur Heart J. 2016;37(23):1850-8. doi: 10.1093/eurheartj/ehv727
- Haas J, Frese KS, Peil B, et al. Atlas of the clinical genetics of human dilated cardiomyopathy. Eur Heart J. 2015;36(18):1123-35a. doi: 10.1093/eurheartj/ehu301
- McNally EM, Mestroni L. Dilated Cardiomyopathy: Genetic Determinants and Mechanisms. Circ Res. 2017;121(7):731-48. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.309396
- Ware JS, Amor-Salamanca A, Tayal U, et al. Genetic Etiology for Alcohol-Induced Cardiac Toxicity. J Am Coll Cardiol. 2018;71(20):2293-302. doi: 10.1016/j.jacc.2018.03.462
- Garcia-Pavia P, Kim Y, Restrepo-Cordoba MA, et al. Genetic Variants Associated with Cancer Therapy-Induced Cardiomyopathy. Circulation. 2019;140(1):31-41. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037934
- Ware JS, Li J, Mazaika E, et al. Shared Genetic Predisposition in Peripartum and Dilated Cardiomyopathies. N Engl J Med. 2016;374(3):233-41. doi: 10.1056/NEJMoa1505517
- LeWinter MM, Granzier HL. Titin is a major human disease gene. Circulation. 2013;127(8):938-44. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.139717
- Shyr C, Tarailo-Graovac M, Gottlieb M. FLAGS, frequently mutated genes in public exomes. BMC Med Genomics. 2014;64. doi: 10.1186/s12920-014-0064-y
- Golbus JR, Puckelwartz MJ, Fahrenbach JP, et al. Population-based variation in cardiomyopathy genes. Circ Cardiovasc Genet. 2012;5(4):391-9. doi: 10.1161/CIRCGENETICS.112.962928
- Herman DS, Lam L, Taylor MR, et al. Truncations of titin causing dilated cardiomyopathy. N Engl J Med. 2012;366(7):619-28. doi: 10.1056/NEJMoa1110186
- Roberts AM, Ware JS, Herman DS, et al. Integrated allelic, transcriptional, and phenomic dissection of the cardiac effects of titin truncations in health and disease. Sci Transl Med. 2015;7(270):270ra6. doi: 10.1126/scitranslmed.3010134
- Shyr C, Tarailo-Graovac M, Gottlieb M, et al. FLAGS, frequently mutated genes in public exomes. BMC Med Genomics. 2014;7:64. doi: 10.1186/s12920-014-0064-y
- Clinical Genome Resource. Cardiovascular CDWG – ClinGen. Available at: https://clinicalgenome.org/working-groups/clinical-domain/cardiovascular. Accessed: 12.11.2023.
- Kim S, Scheffler K, Halpern AL, et al. Strelka2: fast and accurate calling of germline and somatic variants. Nat Methods. 2018;15(8):591-4. doi: 10.1038/s41592-018-0051-x
- Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015;17(5):405-24. doi: 10.1038/gim.2015.30
- LeWinter MM, Wu Y, Labeit S, Granzier H. Cardiac titin: structure, functions and role in disease. Clin Chim Acta. 2007;375(1-2):1-9. doi: 10.1016/j.cca.2006.06.035
- Ware JS, Cook SA. Role of titin in cardiomyopathy: from DNA variants to patient stratification. Nat Rev Cardiol. 2018;15(4):241-52. doi: 10.1038/nrcardio.2017.190
- Tharp CA, Haywood ME, Sbaizero O, et al. The Giant Protein Titin’s Role in Cardiomyopathy: Genetic, Transcriptional, and Post-translational Modifications of TTN and Their Contribution to Cardiac Disease. Front Physiol. 2019;10:1436. doi: 10.3389/fphys.2019.01436
- Tobita T, Nomura S, Fujita T, et al. Genetic basis of cardiomyopathy and the genotypes involved in prognosis and left ventricular reverse remodeling. Sci Rep. 2018;8(1):1998. doi: 10.1038/s41598-018-20114-9
- Verdonschot JAJ, Hazebroek MR, Wang P, et al. Clinical Phenotype and Genotype Associations with Improvement in Left Ventricular Function in Dilated Cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2018;11(11):e005220. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.118.005220
- Vissing CR, Rasmussen TB, Dybro AM, et al. Dilated cardiomyopathy caused by truncating titin variants: long-term outcomes, arrhythmias, response to treatment and sex differences. J Med Genet. 2021;58(12):832-41. doi: 10.1136/jmedgenet-2020-107178
- Akhtar MM, Lorenzini M, Cicerchia M, et al. Clinical Phenotypes and Prognosis of Dilated Cardiomyopathy Caused by Truncating Variants in the TTN Gene. Circ Heart Fail. 2020;13(10):e006832. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006832
- Jansweijer JA, Nieuwhof K, Russo F, et al. Truncating titin mutations are associated with a mild and treatable form of dilated cardiomyopathy. Eur J Heart Fail. 2017;19(4):512-21. doi: 10.1002/ejhf.673
- Escobar-Lopez L, Ochoa JP, Mirelis JG, et al. Association of Genetic Variants with Outcomes in Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2021;78(17):1682-99. doi: 10.1016/j.jacc.2021.08.039
- Tayal U, Newsome S, Buchan R, et al. Phenotype and Clinical Outcomes of Titin Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2017;70(18):2264-74. doi: 10.1016/j.jacc.2017.08.063
- Køber L, Thune JJ, Nielsen JC, et al. Defibrillator Implantation in Patients with Nonischemic Systolic Heart Failure. N Engl J Med. 2016;375(13):1221-30. doi: 10.1056/NEJMoa1608029
- Gigli M, Merlo M, Graw SL, et al. Genetic Risk of Arrhythmic Phenotypes in Patients with Dilated Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2019;74(11):1480-90. doi: 10.1016/j.jacc.2019.06.072
- Corden B, Jarman J, Whiffin N, et al. Association of Titin-Truncating Genetic Variants with Life-threatening Cardiac Arrhythmias in Patients with Dilated Cardiomyopathy and Implanted Defibrillators. JAMA Netw Open. 2019;2(6):e196520. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.6520
- Ahlberg G, Refsgaard L, Lundegaard PR, et al. Rare truncating variants in the sarcomeric protein titin associate with familial and early-onset atrial fibrillation. Nat Commun. 2018;9(1):4316. doi: 10.1038/s41467-018-06618-y
- Choi SH, Weng LC, Roselli C, et al. Association Between Titin Loss-of-Function Variants and Early-Onset Atrial Fibrillation. JAMA. 2018;320(22):2354-64. doi: 10.1001/jama.2018.18179
- Körtl T, Schach C, Sossalla S. How arrhythmias weaken the ventricle: an often underestimated vicious cycle. Herz. 2023;48(2):115-22. doi: 10.1007/s00059-022-05158-y
- Huttner IG, Wang LW, Santiago CF, et al. A-Band Titin Truncation in Zebrafish Causes Dilated Cardiomyopathy and Hemodynamic Stress Intolerance. Circ Genom Precis Med. 2018;11(8):e002135. doi: 10.1161/CIRCGEN.118.002135
- Pedretti S, Vargiu S, Baroni M, et al. Complexity of scar and ventricular arrhythmias in dilated cardiomyopathy of any etiology: Long-term data from the SCARFEAR (Cardiovascular Magnetic Resonance Predictors of Appropriate Implantable Cardioverter-Defibrillator Therapy Delivery) Registry. Clin Cardiol. 2018;41(4):494-501. doi: 10.1002/clc.22911
- Verdonschot JAJ, Hazebroek MR, Derks KWJ, et al. Titin cardiomyopathy leads to altered mitochondrial energetics, increased fibrosis and long-term life-threatening arrhythmias. Eur Heart J. 2018;39(10):864-73. doi: 10.1093/eurheartj/ehx808
- Timmis A, Vardas P, Townsend N, et al. European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021. Eur Heart J. 2022;43(8):716-99. doi: 10.1093/eurheartj/ehab892
补充文件