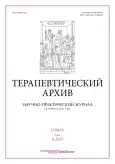Структурно-функциональные параметры эритроцитов как предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с колоректальным раком
- Авторы: Кручинина М.В.1,2, Осипенко М.Ф.2, Громов А.А.1, Стариков А.В.3
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины
- Новосибирский государственный медицинский университет
- Новосибирский областной онкологический диспансер
- Выпуск: Том 97, № 8 (2025): Вопросы лечения
- Страницы: 668-679
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья получена: 21.05.2025
- Статья одобрена: 02.06.2025
- Статья опубликована: 28.08.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/680091
- DOI: https://doi.org/10.26442/00403660.2025.08.203336
- ID: 680091
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель. Выявить особенности жирных кислот в мембранах эритроцитов и сыворотке крови, электрические и вязкоупругие параметры эритроцитов для оценки их способности быть предикторами неблагоприятного исхода у пациентов с колоректальным раком (КРР).
Материалы и методы. Обследованы 112 человек – средний возраст 63,1 ± 9,5 года (62 мужчины, 50 женщин) с КРР I–IV стадий. Пациенты разделены на 2 группы в зависимости от исхода заболевания через 6 лет наблюдения: 1-я группа – со стабилизацией заболевания (n = 55), 2-я группа (n = 57) – с неблагоприятным исходом. Исследование жирных кислот (ЖК) состава мембран эритроцитов, сыворотки крови проведено с помощью газовой хроматографии/масс-спектрометрии – системы на основе трех квадруполей Agilent 7000B (США). Электрические, вязкоупругие параметры эритроцитов изучены с использованием метода диэлектрофореза.
Результаты. Неблагоприятный исход у пациентов с КРР ассоциирован с повышенными уровнями докозапентаеновой С22:5n-3 (p = 0,0003), докозагексаеновой С22:6n-3 (p = 0,001), докозатетраеновой С22:4n-6 (p = 0,004), суммарного содержания омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (p = 0,0004) в мембранах эритроцитов, эйкозадиеновой кислоты (C20:2n-6) в мембранах эритроцитов (p = 0,03) и сыворотке крови (p = 0,01) и, напротив, сниженными уровнями соотношений насыщенные жирные кислоты (НЖК) / ПНЖК (p = 0,004), НЖК / ненасыщенные жирные кислоты (ННЖК) (p = 0,01) и концентрации миристиновой ЖК С14:0 (p = 0,03) в мембранах эритроцитов, а также рядом изменений электрических, вязкоупругих параметров эритроцитов: с повышенным гемолизом эритроцитов на высоких частотах (106 Гц – p = 0,0006 и 5 × 105 Гц – p = 0,046), повышенными индексами агрегации на низких частотах (105 Гц – p = 0,04 и 5 × 104 Гц – p = 0,047), а также смещением равновесной частоты в высокочастотный диапазон (p = 0,036). У пациентов с I–II стадиями КРР наибольшую значимость для дифференцирования исходов заболевания имели омега-6 ПНЖК – эйкозадиеновая кислота C20:2n-6 (p = 0,006), докозатетраеновая кислота С22:4n-6 (p = 0,012), несколько меньшую – омега-3 ПНЖК – суммарное содержание их в мембранах эритроцитов (p = 0,0129), докозагексаеновая кислота С22:6 n-3 (p = 0,0169), суммарное содержание (С20:5n-3 + С22:6n-3) в мембранах эритроцитов (p = 0,0198), докозапентаеновая кислота С22:5n-3 (p = 0,022). Как и в общей группе пациентов с КРР, степень гемолиза на частоте 106 Гц была предиктором неблагоприятного исхода у лиц с ранними стадиями онкологического процесса. При проведении ROC-анализа выявлен высокий потенциал пальмитиновой кислоты в мембранах эритроцитов для предикции неблагоприятного исхода КРР (AUC 0,786, 95% доверительный интервал 0,638–0,901, чувствительность 84,4%, специфичность 68,2%). Диагностическая модель, включающая 5 параметров – эритроцитарные уровни С16:0, НЖК/ПНЖК, ННЖК, ПНЖК и сывороточный уровень С20:2n-6, – имела AUC 0,663 (95% доверительный интервал 0,483–0,801) с наиболее высокой чувствительностью (85,2%), но невысокой специфичностью (60,1%) для прогноза неблагоприятного исхода при КРР.
Заключение. ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови, электрические, вязкоупругие параметры эритроцитов следует рассматривать как перспективные биомаркеры-предикторы у пациентов с КРР, требующие дальнейшего изучения.
Ключевые слова
Полный текст
Список сокращений
ДИ – доверительный интервал
ЖК – жирная кислота
ИА – индекс агрегации
ИД – индекс деструкции
КРР – колоректальный рак
НЖК – насыщенные жирные кислоты
ННЖК – ненасыщенные жирные кислоты
ПНЖК – полиненасыщенные жирные кислоты
Введение
Колоректальный рак (КРР) – вторая по распространенности причина смерти от рака во всем мире, от него умирают около 600 тыс. человек в год [1]. Исход лечения пациентов с раком толстой кишки во многом зависит от стадии, на которой диагностирована опухоль [2, 3]. По-прежнему в значительной части случаев отмечено позднее выявление заболевания с плохим прогнозом. В настоящее время с развитием технологий «омик» выявляется все больше биомаркеров, позволяющих оценить прогноз КРР, таких как геномные, протеомные и метаболомные, предполагающие сочетание методов жидкостной/газовой хроматографии, масс-спектрометрии и ядерного магнитного резонанса и др. [4, 5]. Диагностическая точность использования нетаргетного профилирования методами газовой хроматографии, масс-спектрометрии и программного обеспечения MarkerView для анализа данных в установлении прогноза при КРР составила около 97,2% [6].
Высокая скорость размножения раковых клеток требует большого количества липидов в качестве строительных блоков для биологических мембран [7–9]. Состав липидов и профиль жирных кислот (ЖК) меняется в процессе прогрессирования рака, косвенно свидетельствуя, что липиды – важные сигнальные молекулы и могут использоваться в качестве биомаркеров для определения стадии и прогноза КРР [10–12].
Имеется информация об использовании ряда параметров эритроцитов для прогнозирования течения КРР: средний корпускулярный объем эритроцитов, ширина распределения клеток [13, 14] в сочетании с низкой концентрацией гемоглобина, количеством эритроцитов и уровнем гематокрита [15], состоянием гиперкоагуляции [16], аномальные значения среднего содержания гемоглобина в эритроците [17]. В наших предыдущих работах показаны особенности электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов в зависимости от стадии КРР, локализации опухоли [18, 19].
Цель исследования – выявить особенности ЖК в мембранах эритроцитов и сыворотке крови, электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов для оценки их способности быть предикторами неблагоприятного исхода у пациентов с КРР.
Материалы и методы
В исследовании проанализированы исходные данные пациентов (112 человек – средний возраст 63,1 ± 9,5 года, 62 мужчины, 50 женщин) с КРР, обследованных на базе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», с гистологически подтвержденным КРР (аденокарцинома) в 2017–2018 гг., для которых имелась информация об исходах заболевания через 6 лет наблюдения.
Критерии невключения в исследование: диетические ограничения из-за непроходимости кишечника, серьезные сопутствующие заболевания (тяжелое течение сахарного диабета, выраженная печеночная или почечная недостаточность или гиперлипидемия, требующие лечения препаратами), наличие в анамнезе других злокачественных новообразований. Диагноз КРР выставлялся в соответствии с комбинированными клиническими критериями. Всем пациентам опухоль толстой кишки диагностирована впервые. На основании комплексного клинико-инструментального обследования после операции определялась стадия опухоли толстой кишки в соответствии с классификацией по TNM [20].
Через 6 лет наблюдения у 55 человек состояние стабилизировалось (1-я группа), в 57 случаях отмечены неблагоприятные исходы (2-я группа), под которыми подразумевали прогрессирование заболевания с метастазированием, рецидивом опухоли (n = 10), у большей части пациентов – смертельные исходы (n = 47). Группы пациентов оказались сопоставимы по возрасту, полу, преобладающей левосторонней локализации опухоли в кишке (72,7% в группе со стабилизацией и 71,9% в группе с прогрессированием; p = 0,718). У большей части пациентов обеих групп выявлена аденокарцинома сигмовидной [17 (30,9%) пациентов в 1-й, 16 (28,1%) – во 2-й группе] и прямой кишки [26 (47,3%) и 23 (40,4%) пациента в 1 и 2-й группах соответственно; p = 0,12].
В 1-й группе со стабилизацией состояния у 34 (61,8%) пациентов установлена I [у 5 (9,1%)] и II [у 29 (52,7%)] стадии заболевания, в 21 (38,2%) случае – III и IV стадии [у 19 (34,5%) пациентов – III; у 2 (3,6%) – IV).
Во 2-й группе с неблагоприятными исходами I–II стадии КРР верифицированы у 25 (43,9%) человек [у 5 (8,8%) пациентов – I; у 20 (35,1%) – II стадия]. У 32 (56,2%) пациентов диагностированы отдаленные стадии КРР [в 14 (24,6%) случаях – III; в 18 (31,6%) – IV стадия].
В группе со стабильным состоянием ожидаемо исходно преобладали ранние (I–II стадии КРР), а с неблагоприятным исходом – отдаленные стадии заболевания (III–IV); p = 0,002.
Исследование электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов проведено с помощью диэлектрофореза в неоднородном переменном электрическом поле с помощью электрооптической системы детекции клеток [21]. Содержание ЖК в мембранах эритроцитов и сыворотке крови определено с помощью методов газовой хроматографии/масс-спектрометрии (Agilent 7000B, США). Концентрации ЖК выражали в процентах. Предел обнаружения ЖК ≈ 1 мкг на образец [22].
При проведении статистического анализа оценена нормальность распределения количественных параметров с помощью метода Колмогорова–Смирнова. При нормальном распределении данные представлялись в виде средней арифметической вариационного ряда и среднеквадратического отклонения (M ± SD), статистическая значимость различий оценена с помощью t-критерия Стьюдента. При отсутствии нормального распределения результаты представлены в виде медианы и 25 и 75-го процентилей (Me [25%; 75%]), для оценки значимости различий использовали критерий Манна–Уитни. Для оценки статистической значимости различий относительных показателей применяли критерий χ2 Пирсона. Для определения потенциальных биомаркеров-предикторов неблагоприятного исхода провели процедуру нормализации электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов, концентрации ЖК по медиане с последующим применением методов парной статистики с помощью Volcano plot и дискриминантного анализа на основе ортогональных наименьших квадратов (Orthogonal Partial Least Squares Discriminant Analysis – OPLS-DA). Диагностическая точность оценена с помощью ROC-анализа. Рассчитана чувствительность, специфичность и площадь под ROC-кривой (AUC). Использовалось программное обеспечение MATLAB (R2019a, MathWorks) [23]. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости нулевой гипотезы (p) принимали равным 0,05.
Корреляционный анализ проведен с использованием коэффициентов корреляции Пирсона (при нормальном распределении признаков), ранговые корреляции по Спирмену рассчитаны для переменных, не подчиняющихся нормальному распределению или принадлежащих интервальной шкале.
Исследование одобрено комитетом биомедицинской этики Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (29.11.2016; протокол № 123). Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Результаты
Пациенты обеих групп с разными исходами КРР не различались по возрасту, полу, индексу массы тела, статусу курения. В группе с прогрессированием КРР оказалось больше лиц с систематическим потреблением алкоголя в прошлом и меньше непьющих по сравнению с группой со стабилизацией состояния (p = 0,003). Показатели красной крови в группах сопоставимы при наличии тренда к повышению уровня скорости оседания эритроцитов в группе с неблагоприятным исходом (p = 0,081), количество лейкоцитов и тромбоцитов выше в группе с прогрессированием КРР (p = 0,017 и p = 0,039 соответственно). Из показателей липидного профиля у пациентов с неблагоприятным исходом содержание холестерина липопротеинов высокой плотности ниже (p = 0,032), а уровень холестерина липопротеинов низкой плотности имел тенденцию к повышению (p = 0,064). Следует отметить сниженный уровень альбумина (p = 0,0001) и повышенный уровень глюкозы крови натощак (p = 0,015) у лиц с неблагоприятными исходами КРР. Уровень железа сыворотки демонстрировал тенденцию к снижению в группе пациентов с прогрессированием КРР, не достигающую уровня достоверности (p = 0,093). Показатели печеночных проб находились в пределах референсных значений, не различаясь в группах.
Перед статистической обработкой проведена процедура нормализации уровней электрических, вязкоупругих показателей эритроцитов, содержания ЖК со средне-центрированным масштабированием данных (рис. 1).
Рис. 1. Нормализация уровней электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов, содержания ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови (слева – уровни показателей до нормализации, справа – после нормализации).
Fig. 1. Normalization of the levels of electrical and viscoelastic parameters of erythrocytes, the content of fatty acids in erythrocyte membranes, and blood serum (on the left – levels of indicators before normalization, on the right – after normalization).
В табл. 1 представлены результаты анализа с помощью метода Volcano plot (парная статистика) уровней ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови – потенциальных предикторов неблагоприятного исхода у пациентов с КРР.
Таблица 1. ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови и их соотношения – потенциальные биомаркеры-предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с КРР (данные получены при использовании Volcano plot, парная статистика)
Table 1. Fatty acids of erythrocyte membranes, blood serum and their ratios – potential biomarkers – predictors of unfavorable outcome in patients with colorectal cancer – CRC (data obtained using Volcano plot, paired statistics)
ЖК | Кратность изменений (FC) | log2(FC) | р | –log10p |
Эритроцитарная докозапентаеновая кислота С22:5n-3 | 1,3412 | 0,42355 | 0,000347 | 3,4599 |
Эритроцитарное суммарное содержание омега-3 ПНЖК | 1,3013 | 0,3799 | 0,000458 | 3,3393 |
Эритроцитарная докозагексаеновая кислота С22:6n-3 | 1,313 | 0,39281 | 0,001357 | 2,8674 |
Эритроцитарная докозатетраеновая кислота С22:4n-6 | 1,3285 | 0,40981 | 0,004013 | 2,3965 |
Эритроцитарное соотношение НЖК/ПНЖК | 0,662 | -0,59509 | 0,004263 | 2,3703 |
Сывороточная эйкозадиеновая кислота C20:2 n-6 | 1,4001 | 0,48552 | 0,011085 | 1,9553 |
Эритроцитарное соотношение НЖК/ННЖК | 0,68555 | -0,54467 | 0,011454 | 1,9411 |
Эритроцитарная миристиновая кислота С14:0 | 0,76273 | -0,39075 | 0,032446 | 1,4888 |
Эритроцитарная эйкозадиеновая кислота C20:2 n-6 | 1,3012 | 0,37981 | 0,036025 | 1,4434 |
Развитие неблагоприятного исхода у пациентов с КРР ассоциировано с повышенными уровнями докозапентаеновой С22:5n-3 (p = 0,0003), докозагексаеновой С22:6n-3 (p = 0,001), докозатетраеновой С22:4n-6 (p = 0,004), суммарного содержания омега-3 полиненасыщенных жирных кислот – ПНЖК (p = 0,0004) в мембранах эритроцитов, эйкозадиеновой кислоты C20:2 n-6 в мембранах эритроцитов (p = 0,03) и сыворотке крови (p = 0,01) и, напротив, со сниженными уровнями соотношений насыщенные жирные кислоты (НЖК)/ПНЖК (p = 0,004), НЖК/ненасыщенные жирные кислоты (ННЖК) (p = 0,01) и концентрации миристиновой ЖК С14:0 (p = 0,03) в мембранах эритроцитов.
В табл. 2 представлены результаты статистической обработки электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов в группах пациентов с КРР со стабилизацией и неблагоприятным исходом.
Таблица 2. Электрические и вязкоупругие параметры эритроцитов – потенциальные биомаркеры-предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с КРР (данные получены при использовании Volcano plot, парная статистика)
Table 2. Electrical and viscoelastic parameters of erythrocytes – potential biomarkers-predictors of adverse outcome in patients with CRC (data obtained using Volcano plot, paired statistics)
Электрические и вязкоупругие параметры эритроцитов | Кратность изменений (FC) | log2(FC) | р | –log10(p) |
ИД эритроцитов на частоте 106 Гц | 2,6629 | 1,413 | 0,000648 | 3,1883 |
Положение равновесной частоты (Гц) | 1,5226 | 0,60654 | 0,036243 | 1,4408 |
ИА эритроцитов на частоте 5 × 104 Гц | 1,557 | 0,63881 | 0,041478 | 1,3822 |
ИА эритроцитов на частоте 105 Гц | 1,4785 | 0,56415 | 0,046701 | 1,3752 |
ИД эритроцитов на частоте 5 × 105 Гц | 1,6126 | 0,68939 | 0,047663 | 1,3698 |
Неблагоприятный исход у пациентов с КРР ассоциирован с повышенным гемолизом эритроцитов на высоких частотах (106 Гц – p = 0,0006 и 5 × 105 Гц – p = 0,046), повышенными индексами агрегации (ИА) на низких частотах (105 Гц – p = 0,04 и 5 × 104 Гц – p = 0,047), а также со смещением равновесной частоты в высокочастотный диапазон (p = 0,036).
Установлены корреляции уровней ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови, вязкоупругих параметров эритроцитов с исходом заболевания: для эритроцитарных С22:5n-3 – r = 0,332, p = 0,0001; для С22:6n-3 – r = 0,336, p = 0,0001; для С22:4n-6 – r = 0,332, p = 0,001; для НЖК/ПНЖК – r = -0,302, p = 0,001; сывороточной С20:2n-6 – r = 0,327, p = 0,0001; эритроцитарной С20:2n-6 – r = 0,261, p = 0,006; эритроцитарной С16:0 – r = -0,247, p = 0,009; отношения НЖК/ННЖК – r = -0,289, p = 0,002. Индексы деструкции (ИД) эритроцитов на частоте 106 Гц, ИА на частоте 105 Гц, 5 × 105 Гц прямо коррелировали с неблагоприятным исходом КРР (r = 0,321, p = 0,001; r = 0,273, p = 0,004; r = 0,268, p = 0,004 соответственно). Со стадией КРР выявлены прямые ассоциации содержания эритроцитарных С22:5n-3 (r = 0,242; p = 0,004), С22:6n-3 (r = 0,229; p = 0,002), сывороточной С20:2n-6 (r = 0,171; p = 0,021) и обратные – с эритроцитарными С14:0 (r = -0,307; p = 0,0001), С16:0 (r = -0,205, p = 0,005). Поздние стадии КРР прямо коррелировали с ИД эритроцитов на высоких – 106 Гц (r = 0,195; p = 0,008) и низких 5 × 105 Гц (r = 0,223; p = 0,002) частотах, ИА на низких частотах – 105 Гц (r = 0,297; p = 0,0001), 5 × 105 Гц (r = 0,223; p = 0,002), с положением равновесной частоты (r = 0,302; p = 0,002). Выявлены связи между электрическими, вязкоупругими параметрами эритроцитов и уровнями ЖК в мембранах эритроцитов, сыворотке крови. Так, ИД эритроцитов на высоких частотах оказались прямо связанными с эритроцитарным уровнем С22:6n-3 (r = 0,158, p = 0,032 для частоты 106 Гц; r = 0,142, p = 0,05 – для частоты 5 × 105 Гц), положение равновесной частоты в виде тенденции оказалось связанным с уровнем С22:5n-3 в мембранах эритроцитов (r = 0,137; p = 0,064). Наибольшее число ассоциаций установлено между ИА и концентрациями ЖК: ИА на частоте 105 Гц коррелировал с эритроцитарными уровнями С22:5n-3 (r = 0,295; p = 0,0001), С22:6n-3 (r = 0,336; p = 0,0001), С22:4n-6 (r = 0,293; p = 0,0001), С16:0 (r = -0,195; p = 0,008), НЖК/ПНЖК (r = -0,368; p = 0,0001), НЖК/ННЖК (r = -0,349; p = 0,0001), С20:2n-6 (r = 0,242; p = 0,001), сывороточной С20:2n-6 (r = 0,240; p = 0,001). ИА на частоте 5 × 104 Гц коррелировал с эритроцитарными уровнями С22:5n-3 (r = 0,262; p = 0,0001), С22:6n-3 (r = 0,293; p = 0,0001), С22:4n-6 (r = 0,271; p = 0,0001), НЖК/ПНЖК (r = -0,333; p = 0,0001), НЖК/ННЖК (r = -0,311; p = 0,0001), С20:2n-6 (r = 0,213; p = 0,004), сывороточной С20:2n-6 (r = 0,210; p = 0,004).
На II этапе нашей работы проанализированы различия в уровнях ЖК и электрических, вязкоупругих параметров у пациентов с I–II стадиями КРР с различными исходами (34 пациента с I–II стадиями КРР в группе со стабилизацией состояния, 25 с ранними стадиями – в группе с неблагоприятным исходом). Предпринята попытка установить предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с I–II стадиями рака. На рис. 2 при использовании метода главных компонент (PCA) выявлены показатели, уровни которых различают пациентов с I–II стадиями КРР со стабильным состоянием и неблагоприятным исходом.
Рис. 2. Метод главных компонент (PCA) для различения пациентов с КРР I–II стадий с неблагоприятным исходом и стабилизацией.
Fig. 2. Principal component analysis (PCA) to distinguish patients with stage I–II CRC with poor outcome and stable outcome.
Метод Volcano plot (непарная статистика) выявил ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови, вязкоупругие параметры – потенциальные предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с I–II стадиями КРР (табл. 3).
Таблица 3. ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови, их соотношения, вязкоупругие параметры эритроцитов – предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с I–II стадиями КРР (метод Volcano plot, непарная статистика)
Table 3. Fatty acids of erythrocyte membranes, blood serum, their ratios, viscoelastic parameters of erythrocytes – predictors of unfavorable outcome in patients with stages I–II CRC (Volcano plot method, unpaired statistics)
ЖК | Кратность изменений (FC) | log2(FC) | р | -log10(p) |
Сывороточная эйкозадиеновая кислота C20:2n-6 | 1,8366 | 0,87701 | 0,006353 | 2,197 |
Эритроцитарная докозатетраеновая кислота С22:4n-6 | 1,3787 | 0,46326 | 0,012086 | 1,9177 |
Суммарное содержание омега-3 ПНЖК в мембранах эритроцитов | 1,3002 | 0,37871 | 0,012991 | 1,8864 |
Эритроцитарная докозагексаеновая кислота С22:6n-3 | 1,3307 | 0,41215 | 0,016975 | 1,7702 |
Суммарное содержание (С20:5n-3+С22:6n-3) в мембранах эритроцитов | 1,2964 | 0,37449 | 0,019803 | 1,7033 |
Эритроцитарная докозапентаеновая кислота С22:5n-3 | 1,2966 | 0,37475 | 0,022199 | 1,6537 |
Эритроцитарное соотношение НЖК/ПНЖК | 0,68977 | -0,53581 | 0,028215 | 1,5495 |
ИД эритроцитов на частоте 106 Гц (%) | 2,4295 | 1,2807 | 0,042353 | 1,3731 |
Эритроцитарное соотношение НЖК/ННЖК | 0,708841 | -0,49734 | 0,043009 | 1,3664 |
Следует отметить, что при рассмотрении пациентов только с I–II стадиями КРР на первом месте по значимости в различении неблагоприятного исхода и стабилизации оказались омега-6 ПНЖК – эйкозадиеновая кислота C20:2n-6 (p = 0,006), докозатетраеновая кислота С22:4n-6 (p = 0,012). Значимость вклада омега-3 ПНЖК несколько ниже – для суммарного содержания их в мембранах эритроцитов (p = 0,0129), докозагексаеновой кислоты С22:6 n-3 (p = 0,0169), суммарного содержания (С20:5n-3+С22:6n-3) (p = 0,0198), докозапентаеновой кислоты С22:5 n-3 (p = 0,022) в мембранах эритроцитов. Более низкие значения соотношений НЖК/ПНЖК (p = 0,028) и НЖК/ННЖК (p = 0,043) в мембранах эритроцитов также ассоциированы с неблагоприятным исходом КРР у пациентов с I–II стадиями заболевания. Как и в общей группе пациентов с КРР, степень гемолиза на частоте 106 Гц можно считать предиктором неблагоприятного исхода у лиц с ранними стадиями онкологического процесса.
ROC-анализ прогностических панелей, в состав которых включены как содержание отдельных ЖК в мембранах эритроцитов, сыворотке крови, их соотношений, так и совокупности ЖК, обеспечил различные уровни диагностической точности в различении пациентов с I–II стадиями КРР со стабилизацией и неблагоприятным исходом (рис. 3).
Рис. 3. ROC-кривые моделей для установления прогноза при КРР: a – для эритроцитарной С16:0 – AUC 0,786 (95% ДИ 0,638–0,901); b – для сывороточной С20:2n-6 – AUC 0,716 (95% ДИ 0,57–0,853); c – для эритроцитарной С22:4n-6 – AUC 0,697 (95% ДИ 0,528–0,838); d – НЖК/ПНЖК в мембранах эритроцитов – AUC 0,689 (95% ДИ 0,53–0,841); e – перечень диагностических панелей, включающих различное число ЖК, с AUC 0,587–0,663; f – диагностическая модель, включающая эритроцитарные уровни С16:0, НЖК/ПНЖК, ННЖК, ПНЖК и сывороточный уровень С20:2n-6 [AUC 0,663 (95% ДИ 0,483–0,801)].
Fig. 3. ROC curves of the models for establishing prognosis in colorectal cancer: a – for erythrocyte C16:0 – AUC 0.786 (95% CI 0.638–0.901); b – for serum C20:2n-6 – AUC 0.716 (95% CI 0.57–0.853); c – for erythrocyte C22:4n-6 – AUC 0.697 (95% CI 0.528–0.838); d – SFA/PUFA in erythrocyte membranes –AUC 0.689 (95% CI 0.53–0.841); e – list of diagnostic panels including different numbers of fatty acids, with AUC from 0.587 to 0.663; f – A diagnostic model including red blood cell levels of C16:0, SFA/PUFA, SFA, PUFA and serum level of C20:2n-6 [AUC 0.663 (95% CI 0.483–0.801)].
ROC-анализ выявил высокий потенциал пальмитиновой кислоты в мембранах эритроцитов для предикции неблагоприятного исхода КРР [для С16:0 AUC 0,786 (95% доверительный интервал – ДИ 0,638–0,901), чувствительность 84,4%, специфичность 68,2%]. Ряд ЖК и их соотношений, установленных в качестве прогностических маркеров методом Volcano plot, подтвердил свою диагностическую значимость в различении неблагоприятного исхода от стабилизации при построении ROC-кривых. Это сывороточное содержание С20:2n-6 – AUC 0,716 (95% ДИ 0,57–0,853), чувствительность 81,2%, специфичность 68,3%; эритроцитарный уровень С22:4n-6 – AUC 0,697 (95% ДИ 0,528–0,838), чувствительность 75,1%, специфичность 63,6%; отношение НЖК/ПНЖК в мембранах эритроцитов – AUC 0,689 (95% ДИ 0,53–0,841), чувствительность 75,1%, специфичность 63,7% (рис. 3, a–d). Для комбинированных моделей, содержавших от 3 до 93 параметров, уровень точности в дифференцировании исходов КРР оказался ниже – AUC 0,587–0,663 (рис. 3, e). Диагностическая модель, включающая 5 параметров – эритроцитарные уровни С16:0, НЖК/ПНЖК, ННЖК, ПНЖК и сывороточный уровень С20:2n-6, – имела AUC 0,663 (95% ДИ 0,483–0,801) с наибольшей чувствительностью 85,2%, но невысокой специфичностью – 60,1%. На рис. 4 представлены степени вклада уровней разных ЖК в различение пациентов с неблагоприятным исходом и стабилизацией среди лиц с I–II стадией КРР. Следует отметить высокую значимость низкого уровня пальмитиновой кислоты С16:0 мембран эритроцитов, ассоциированного с неблагоприятным исходом КРР.
Рис. 4. Степень вклада уровней ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови в различение пациентов с I–II стадиями КРР с неблагоприятным исходом и стабилизацией.
Fig. 4. The contribution of erythrocyte membrane fatty acid levels and blood serum to distinguishing patients with stage 1–2 CRC with unfavorable outcome and stabilization.
Обсуждение
КРР остается одной из основных причин смерти от рака во всем мире, несмотря на недавние достижения в его скрининге, ранней диагностике и новых вариантах терапии [1]. Измененные липидные профили представляют собой общую черту опухолей толстой кишки [24]. В качестве потенциальных биомаркеров КРР для диагностики и мониторирования протестированы различные классы липидных метаболитов, включая ЖК [25–27].
На I этапе нашей работы мы попытались выявить ЖК мембран эритроцитов, сыворотки крови, электрические, вязкоупругие параметры эритроцитов, ассоциированные с неблагоприятным исходом, в общих группах пациентов с КРР, включавших лиц с разными стадиями заболевания. На II этапе с помощью последовательного применения комплекса современных статистических методов установлены показатели – потенциальные предикторы неблагоприятного исхода у пациентов с I–II стадиями КРР, что значимо для последующей тактики ведения этой категории лиц.
По данным настоящего исследования, уменьшение соотношения НЖК к НЖК/ПНЖК ассоциировано с неблагоприятным исходом КРР, причем как в общей группе без разделения на стадии заболевания, так и отдельно у пациентов с I–II стадиями КРР. Выявлена значимость низких уровней отдельных НЖК – миристиновой и пальмитиновой. Это может быть связано как со снижением содержания НЖК в мембранах эритроцитов, так и с ростом ННЖК. Исследования биологической значимости липидного гомеостаза показали, что опухолям крайне важно поддерживать оптимальное соотношение жирных ацильных цепей (т.е. соотношение мононенасыщенных и НЖК, а также НЖК и ПНЖК), что позволяет избежать липотоксичности и ферроптоза [28]. G. Zhao и соавт. показали, что высокий уровень ненасыщенности липидов, обусловленный повышенной активностью стеароил-КоА-десатуразы-1 (SCD), защищает раковые клетки от апоптоза, вызванного стрессом эндоплазматического ретикулума [29], и служит одним из ключевых механизмов пролиферации клеток и их опухолевой трансформации [30].
Избыточное расходование НЖК происходит в процессе ацилирования, посттрансляционной модификации секретируемых сигнальных белков Hedgehog (Hh), Wnt, значимых для прогрессирования КРР [31]. Описан расход миристиновой кислоты для синтеза фермента N-миристоилтрансферазы, необходимого для работы антиоксиданта FSP1, который защищает раковые клетки от ферроптоза, что обеспечивает устойчивость опухолевых клеток [32]. Проспективное исследование, выполненное E. Aglago и соавт., обнаружило обратную связь между содержанием пищевой или плазменной миристиновой кислоты С14:0 и риском развития КРР [33].
В нашей работе в процессе выполнения ROC-анализа выявлены сниженные уровни пальмитиновой кислоты С16:0 в мембранах эритроцитов, ассоциированные с неблагоприятным исходом. Известно, что С16:0 может модифицировать остатки цистеина в процессе пальмитоилирования [34]. Пальмитоилирование белков (таких как PDL1, GULT1, STAT3 и IFNGR1) влияет на их функции и связано с прогрессированием опухолей [35]. Q. Zhang и соавт. установили, что фермент ацил-КоА оксидаза 1 (ACOX1) подавляет прогрессирование КРР путем регулирования перепрограммирования пальмитиновой кислоты [36]. В исследовании R. de Araujo Junior и соавт. обнаружили, что пальмитиновая кислота ингибирует экспрессию интерлейкина-10 (ИЛ-10), снижает экспрессию STAT3 и NF-κB и подавляет пролиферацию клеток КРР у мышей (CT-26) [37]. C16:0 оказывает противоопухолевое действие, ингибируя пролиферацию раковых клеток и потенциально подавляя рост опухоли и метастазирование. В исследовании G. Yu и соавт. обнаружили, что пальмитиновая кислота запускает активацию p53 и экспрессию его целевых генов, а именно p21 и Sesn2, в зависимости от дозы и времени воздействия кислоты, что сопровождается снижением уровней антиоксидантов [n-ацетилцистеин (NAC) и восстановленный глутатион (GSH)] в раковых клетках [38]. K. El Hindi и соавт. показали, что клетки КРР реагируют на гипоксию посредством модуляции метаболизма церамидов. Снижение уровня церамидов (Cer), содержавших С16:0, и повышение уровня Cer 24:0 и Cer 24:1 свидетельствовало о сдвиге в сторону распространения рака [10]. По данным S. Deng и соавт., пальмитиновая кислота активировала путь NF-κB в опухолевых клетках, стимулируя секрецию CSF-1, TGF-β1 и CXCL8, что способствовало активации NF в фибробластах (mCAF) и увеличивало жесткость матрикса при обструктивном КРР, ассоциированном с плохим прогнозом [39].
В нашей работе установлена роль повышенного уровня ряда ПНЖК как предикторов неблагоприятного исхода у пациентов с КРР. Если для омега-6 ПНЖК (эйкозадиеновая кислота C20:2 n-6, докозатетраеновая кислота С22:4n-6) это ожидаемо с учетом их провоспалительного потенциала, то в отношении омега-3 ПНЖК (докозагексаеновой С22:6 n-3, докозапентаеновой С22:5 n-3, эйкозапентаеновой С20:5 n-3 кислот, их суммарного содержания) подобные результаты оказались неожиданными. Корреляционный анализ подтвердил наличие слабых, но статистически значимых ассоциаций между исходом, стадиями КРР и уровнями ЖК мембран эритроцитов и сыворотки крови: прямых – с омега-6, омега-3 ПНЖК, обратных – с уровнями С14:0, С16:0, отношениями НЖК/ННЖК, НЖК/ПНЖК.
Протективный эффект омега-3 ПНЖК в отношении развития КРР продемонстрирован в ряде исследований. Эксперименты показали, что эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота обладают противовоспалительным и противораковым действием [40, 41]. Омега-3 ПНЖК могут подавлять активацию рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR), снижая фосфорилирование белка 2, связывающего рецептор фактора роста (Grb2), который играет роль в подавлении воспаления [42, 43], влияя на Toll-подобные рецепторы, уменьшая активность сигнального пути NF-κB и экспрессию провоспалительных генов [44]. Добавки с омега-3 ЖК снижают уровень воспалительных цитокинов (ИЛ-6 и ФНО-α) у онкологических пациентов [45, 46]. Омега-3 ПНЖК могут уменьшать выработку С-реактивного белка, ограничивать высвобождение ИЛ-6, снижать уровень воспалительной реакции и улучшать иммунную функцию организма, минимизируя дисбаланс Th1 и Th2-клеток [47, 48] путем образования протектинов и резольвинов, которые способствуют регенерации тканей [49].
Однако работа C. Lam и соавт. продемонстрировала, что омега-3 ПНЖК не оказали существенного эффекта на нутритивный статус или регуляцию воспалительных процессов у пациентов с КРР [50], на продолжительность жизни пациентов с послеоперационным раком толстой кишки, получавших парентеральное питание [51]. Более того, недавний метаанализ заключил, что продолжительность жизни пациентов с КРР сокращалась при парентеральном введении омега-3 ПНЖК [52, 53]. Более того, J. Hofmanová и соавт., V. Cottet и соавт., H. Liu и соавт. обнаружили повышенное содержание омега-3 ПНЖК (докозагексаеновой и докозапентаеновой) в опухолевых клетках при КРР, а также повышенную активность элонгаз, десатураз ЖК, уровней мРНК генов, участвующих в синтезе ЖК и контроле липидного метаболизма [54–56]. Высокие уровни омега-3 ПНЖК дестабилизируют липидные «рафты» с последующим нарушением белковой композиции липидного слоя внутренней части мембраны и ингибируют реакции Т-киллеров [57].
H. Woodworth и соавт. обнаружили, что высокие дозы докозагексаеновой кислоты ассоциированы со снижением иммунной функции [58].
По данным нашей работы роль омега-6 ПНЖК как предикторов неблагоприятного исхода в большей степени проявилась у пациентов с I–II стадиями КРР. Метаболиты омега-6 ПНЖК, наиболее тесно связанные с онкогенезом, – это лейкотриены и простагландины – в связи с их важной ролью в ангиогенезе, пролиферации клеток, метастазировании и апоптозе [59, 60]. LTB4 может действовать как фактор роста, взаимодействуя с рецепторами BLT1 и BLT2, связанными с G-белком, через активацию NFκB приводит к выработке ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α, экспрессии VEGF и ангиогенезу [61]. В клетках толстой кишки блокада BLT1 подавляла клеточную пролиферацию и вызывала апоптоз посредством ингибирования сигнального пути ERK [62, 63]. В опухолевых клетках ЦОГ-2 часто экспрессируется в избытке, что приводит к выработке высоких уровней PGE2 [59]. При КРР PGE2 повышает экспрессию ДНК-метилтрансферазы (DNMT)-1 и DNMT3, что приводит к гиперметилированию промоторных участков и снижению экспрессии РНК и белков генов-супрессоров опухолей [64, 65].
В литературе имеется информация о разнонаправленных эффектах эйкозадиеновой кислоты C20:2n-6 при различной патологии. Учитывая ее образование из линолевой кислоты (C18:2n-6), ее рассматривают как своеобразный маркер содержания других омега-6 ПНЖК [66]. В экспериментальном исследовании С20:2n-6 по-разному влияла на медиаторы воспаления – уменьшала продукцию оксида азота, но повышала высвобождение простагландина E2 и ФНО-α [67]. Результаты исследования L. Wang и соавт. свидетельствуют о связи повышенного уровня эйкозадиеновой кислоты мембран эритроцитов с более низким риском запущенных аденом (отношение шансов 0,83, 95% ДИ 0,71–0,97) [68]. В нашем исследовании сывороточный уровень этой кислоты оказался связанным с неблагоприятным прогнозом у пациентов с КРР.
По мнению R. Soundararajan и соавт. [69], КРР ассоциирован с дисбалансом провоспалительных и противовоспалительных липидных медиаторов – производных омега-3 и омега-6 ПНЖК, что способствует росту и прогрессированию опухоли [70]. Немаловажная роль в этом процессе отводится изменению соотношения омега-6 и омега-3 ПНЖК.
Повышенное содержание в мембранах эритроцитов ПНЖК обеспечивает более высокую гибкость клеточной мембраны, склонность к метастазированию. При насыщении мембран опухолевых клеток рака молочной железы холестерином наблюдалось снижение гибкости мембран и ухудшение миграции клеток, формирование маммосфер [71]. Высокое содержание внутриклеточного холестерина с повышением ригидности клеточных мембран оценивалось как благоприятный прогностический фактор для общей выживаемости и выживаемости без рецидива у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, перенесших резекцию опухоли [72].
Среди электрических и вязкоупругих параметров эритроцитов по данным настоящей работы с неблагоприятным исходом оказались ассоциированы степень гемолиза эритроцитов на высоких частотах электрического поля (106 и 5 × 105 Гц), ИА на низких частотах электрического поля (105 и 5 × 104 Гц) и положение равновесной частоты. Причем для I–II стадий КРР предиктором плохого прогноза оказался лишь гемолиз эритроцитов на частоте 106 Гц. Эти данные свидетельствуют о снижении поверхностного отрицательного заряда эритроцитов, что приводит к «слипанию» клеток с образованием агрегатов на низких частотах поля (низкие уровни сдвига в кровотоке), снижении резистентности клеток красной крови. Смещение равновесной частоты в высокочастотный диапазон отражает измененный цитокиновый профиль, токсическое воздействие на клетки красной крови [21, 73–75]. В литературе предложено 3 механизма развития гемолиза и гиперкоагуляции при КРР: эмболизация опухолей в микрососудистом русле (артериолы и капилляры), приводящая к лизису эритроцитов; активация эндотелия из-за циркулирующих опухолевых клеток, приводящая к воспалительному каскаду; секреция муцина клетками опухоли, фактора фон Виллебранда метастазами в костный мозг и экспрессия тканевого фактора опухолевыми и эндотелиальными клетками [76].
Одной из причин избыточной деструкции эритроцитов при КРР следует считать модификацию структуры мембран эритроцитов с существенным увеличением доли лизофракций фосфолипидов [77]. J. Hofmanová и соавт. выявили повышенное содержание лизофосфолипидов в опухолевых клетках с преобладанием ЖК, в основном ПНЖК – C20:3n6 (дигомо-γ-линоленовая кислота), C20:4 (n-6 арахидоновая кислота или n-3 эйкозатетраеновая кислота), C22:4n6 (адреновая кислота), C22:5n3 (докозапентаеновая кислота) и C22:6n3 (докозагексаеновая кислота) [54]. Эти данные согласуются с результатами нашего корреляционного анализа по ассоциациям между уровнями гемолиза эритроцитов и содержания ПНЖК.
Избыточное образование агрегатов ассоциировано с запустеванием капилляров на микроциркуляторном уровне и нарастанием гипоксии с активацией нескольких сигнальных путей, включая индуцируемый гипоксией фактор 1α (HIF-1α), который поддерживает пролиферацию опухоли, определяя неблагоприятный прогноз [17]. Высвобождающийся при гемолизе гемоглобин может усиливать пролиферацию опухолевых клеток, генерируя активные формы кислорода (ROS) [78]. Клетки КРР адаптируются к гипоксическим состояниям, изменяя метаболические пути, что поддерживает постоянный рост, прогрессирование и устойчивость к лечению [79].
Эпидемиологические и экспериментальные исследования установили, что гемовое железо вызывает прогрессирование КРР, способствуя образованию канцерогенных N-нитрозосоединений и продуцируя цитотоксические и генотоксические альдегиды посредством перекисного окисления липидов [80, 81]. Концентрация железа в тканях КРР значительно выше, чем в тканях полипов, в то время как уровень сывороточного железа у пациентов с КРР заметно ниже, чем у пациентов с полипами и контрольной группой, что предполагает связь между накоплением железа в опухолевых тканях и снижением уровня сывороточного железа [82]. Исследования задокументировали значительные изменения в молекулах, связанных с метаболизмом железа, таких как ферритин, трансферрин и сывороточное железо, у пациентов с КРР, потенциально влияющие на возникновение и прогрессирование опухоли [83].
Настоящее исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, это небольшое число пациентов, у которых удалось установить исход через 6 лет наблюдения. Во-вторых, невключение в анализ данных по диетическим ЖК, которые могли повлиять на уровни сывороточных ЖК. В-третьих, отсутствие информации о составе ЖК в клетках опухоли и сопоставления ЖК-профилей ткани кишки и мембран эритроцитов/сыворотки крови. Вместе с тем полученная информация может быть полезной для дальнейших исследований с точки зрения предикции течения КРР.
Заключение
Неблагоприятный исход у пациентов с КРР ассоциирован с повышенными уровнями докозапентаеновой С22:5n-3 (p = 0,0003), докозагексаеновой С22:6n-3 (p = 0,001), докозатетраеновой С22:4n-6 (p = 0,004), суммарного содержания омега-3 ПНЖК (p = 0,0004) в мембранах эритроцитов, эйкозадиеновой кислоты C20:2 n-6 в мембранах эритроцитов (p = 0,03) и сыворотке крови (p = 0,01) и, напротив, сниженными уровнями соотношений НЖК/ПНЖК (p = 0,004), НЖК/ННЖК (p = 0,01) и концентрации миристиновой ЖК (С14:0) (p = 0,03) в мембранах эритроцитов, а также с рядом изменений электрических, вязкоупругих параметров эритроцитов: с повышенным гемолизом эритроцитов на высоких частотах электрического поля (106 Гц – p = 0,0006 и 5 × 105 Гц – p = 0,046), повышенными ИА на низких частотах (105 Гц – p = 0,04 и 5 × 104 Гц – p = 0,047), а также смещением равновесной частоты в высокочастотный диапазон (p = 0,036).
У пациентов с I–II стадиями КРР наибольшую значимость для дифференцирования исходов заболевания имели повышенные уровни омега-6 ПНЖК – эйкозадиеновая кислота C20:2n-6 (p = 0,006), докозатетраеновая кислота С22:4n-6 (p = 0,012), несколько меньшую – содержание омега-3 ПНЖК суммарное в мембранах эритроцитов (p = 0,0129), докозагексаеновой кислоты С22:6n-3 (p = 0,0169), суммарное содержание (С20:5n-3 + С22:6n-3) в мембранах эритроцитов (p = 0,0198), докозапентаеновой кислоты С22:5n-3 (p = 0,022). Как и в общей группе пациентов с КРР, степень гемолиза на частоте 106 Гц была предиктором неблагоприятного исхода у лиц с I–II стадиями КРР.
ROC-анализ выявил высокий потенциал пальмитиновой кислоты в мембранах эритроцитов для предикции неблагоприятного исхода КРР (для С16:0 AUC 0,786, 95% ДИ 0,638–0,901, чувствительность 84,4%, специфичность 68,2%). Диагностическая модель, включающая 5 параметров – эритроцитарные уровни С16:0, НЖК/ПНЖК, ННЖК, ПНЖК и сывороточный уровень С20:2n-6, – имела AUC 0,663, 95% ДИ 0,483–0,801 с наиболее высокой чувствительностью – 85,2%, но невысокой специфичностью – 60,1% для прогноза неблагоприятного исхода при КРР.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Работа выполнена по Государственному заданию в рамках бюджетной темы «Изучение молекулярно-генетических и молекулярно-биологических механизмов развития распространенных терапевтических заболеваний в Сибири для совершенствования подходов к их ранней диагностике и профилактике», 2024–2028 гг. (FWNR-2024-0004).
Funding source. The work was carried out under the State assignment within the framework of the budget theme “Study of molecular genetic and molecular biological mechanisms of development of common therapeutic diseases in Siberia to improve approaches to their early diagnosis and prevention”, 2024–2028 (FWNR-2024-0004).
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом (НИИ ТПМ – филиала ФГБНУ ФИЦ ИЦиГ СО РАН, протокол №123, 29.11.2016). Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee (Research Institute of Internal and Preventive Medicine, Minutes No. 123, 29.11.2016). Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
Об авторах
Маргарита Витальевна Кручинина
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины; Новосибирский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: kruchmargo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0077-3823
д-р мед. наук, проф., зав. лаб. гастроэнтерологии, вед. науч. сот. лаб. гастроэнтерологии; проф. каф. пропедевтики внутренних болезней
Россия, Новосибирск; НовосибирскМарина Федоровна Осипенко
Новосибирский государственный медицинский университет
Email: kruchmargo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-5156-2842
д-р мед. наук, проф., зав. каф. пропедевтики внутренних болезней
Россия, НовосибирскАндрей Александрович Громов
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины
Email: kruchmargo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9254-4192
канд. мед. наук, ст. науч. сотр. лаб. клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний, руководитель Центра профилактики тромбозов
Россия, НовосибирскАндрей Владимирович Стариков
Новосибирский областной онкологический диспансер
Email: kruchmargo@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0009-6776-3401
врач-онколог
Россия, НовосибирскСписок литературы
- Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2024;74(3):229-63. doi: 10.3322/caac.21834
- Van der Geest LG, Lam-Boer J, Koopman M, et al. Nationwide trends in incidence, treatment and survival of colorectal cancer patients with synchronous metastases. Clin Exp Metastasis. 2015;32(5):457-65. doi: 10.1007/s10585-015-9719-0
- White A, Joseph D, Rim SH, et al. Colon cancer survival in the United States by race and stage (2001-2009): Findings from the CONCORD-2 study. Cancer. 2017;123(Suppl. 24):5014-36. doi: 10.1002/cncr.31076
- Zhang Y, Wang Y, Zhang B, et al. Methods and biomarkers for early detection, prediction, and diagnosis of colorectal cancer. Biomed Pharmacother. 2023;163:114786. doi: 10.1016/j.biopha.2023.114786
- Gu J, Xiao Y, Shu D, et al. Metabolomics Analysis in Serum from Patients with Colorectal Polyp and Colorectal Cancer by 1H-NMR Spectrometry. Dis Markers. 2019;2019:3491852. doi: 10.1155/2019/3491852
- Martín-Blázquez A, Díaz C, González-Flores E, et al. Untargeted LC-HRMS-based metabolomics to identify novel biomarkers of metastatic colorectal cancer. Sci Rep. 2019;9(1):20198. doi: 10.1038/s41598-019-55952-8
- Santos CR, Schulze A. Lipid Metabolism in Cancer: Lipid Metabolism in Cancer. FEBS J. 2012;279(15):2610-23. doi: 10.1111/j.1742-4658.2012.08644.x
- Del Solar V, Lizardo DY, Li N, et al. Differential Regulation of Specific Sphingolipids in Colon Cancer Cells during Staurosporine-Induced Apoptosis. Chem Biol. 2015;22:1662-70. doi: 10.1016/j.chembiol.2015.11.004
- Sun H, Zhang L, Wang Z, et al. Single-cell transcriptome analysis indicates fatty acid metabolism-mediated metastasis and immunosuppression in male breast cancer. Nat Commun. 2023;14(1):5590. doi: 10.1038/s41467-023-41318-2
- El Hindi K, Brachtendorf S, Hartel JC, et al. Hypoxia induced deregulation of sphingolipids in colon cancer is a prognostic marker for patient outcome. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2024;1870(1):166906. doi: 10.1016/j.bbadis.2023.166906
- Krishnan ST, Winkler D, Creek D, et al. Staging of colorectal cancer using lipid biomarkers and machine learning. Metabolomics. 2023;19(10):84. doi: 10.1007/s11306-023-02049-z
- Кручинина М.В., Светлова И.О., Громов А.А., и др. Колоректальный рак и изменения липидома. Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2020 [Kruchinina MV, Svetlova IO, Gromov AA, et al. Kolorektal'nyi rak i izmeneniia lipidoma. Novosibirsk: Offset-TM LLC, 2020 (in Russian)].
- Spell DW, Jones DV Jr, Harper WF, David Bessman J. The value of a complete blood count in predicting cancer of the colon. Cancer Detect Prev. 2004;28(1):37-42. doi: 10.1016/j.cdp.2003.10.002
- Ellingsen TS, Lappegard J, Skjelbakken T, et al. Impact of red cell distribution width on future risk of cancer and all-cause mortality among cancer patients – the Tromsø Study. Haematologica. 2015;100(10): e387-9. doi: 10.3324/haematol.2015.129601
- Santos-Silva MA, Sousa N, Majar M, et al. Pattern recognition of hematological profiles of tumors of the digestive tract: an exploratory study. Front Med (Lausanne). 2023;10:1208022. doi: 10.3389/fmed.2023.1208022
- Rees PA, Clouston HW, Duff S, Kirwan CC. Colorectal cancer and thrombosis. Int J Colorectal Dis. 2018;33(1):105-8. doi: 10.1007/s00384-017-2909-2
- Shen J, Qin X, Zeng X, et al. Hemoglobin levels in red blood cells and risk of colorectal cancer: A causal investigation based on Mendelian randomization. Medicine (Baltimore). 2024;103(48):e40562. doi: 10.1097/MD.0000000000040562
- Kruchinina MV, Prudnikova YaI, Gromov AA, et al. New opportunities for colorectal cancer diagnostics using an optical cell detection system based on dielectrophoresis. Optics and Spectroscopy. 2019;126(5): 568-73. doi: 10.1134/S0030400X19050163
- Kruchinina MV, Gromov A A, Shcherbakova LV, et al. Electric and viscoelastic parameters of erythrocytes in models for diagnostics of adenomatous polyps and stages of colorectal cancer in optical detection of cells in an inhomogeneous alternating electric field. Optics and Spectroscopy. 2021;129(6):772-85. doi: 10.1134/S0030400X21060060
- Скоулфилд Д.Г., Энг К. Колоректальный рак. Диагностика и тактика лечения. Пер. с анг. под ред. Ю.А. Шелыгина. М.: Практическая медицина, 2019 [Scoulfield DG, Eng K. Colorectal cancer. Diagnostika i taktika lecheniia. Trans. from English. Moscow: Practical Medicine, 2019 (in Russian)].
- Генералов К.В., Кручинина М.В., Сафатов А.С., и др. Диэлектрофорез в медицине. Новосибирск: ООО «Офсет-ТМ», 2024 [Generalov KV, Kruchinina MV, Safatov AS, et al. Dielektroforez v meditsine. Novosibirsk: Offset-TM LLC, 2020 (in Russian)].
- Кручинина М.В., Кручинин В.Н., Прудникова Я.И., и др. Исследование уровня жирных кислот мембран эритроцитов и сыворотки крови у пациентов с колоректальным раком г. Новосибирска. Успехи молекулярной онкологии. 2018;5(2):50-61 [Kruchinina MV, Kruchinin VN, Prudnikova YaI, et al. Study of the level of fatty acids in erythrocyte membranes and serum of patients with colorectal cancer in Novosibirsk. Advances in Molecular Oncology. 2018;5(2):50-61 (in Russian)]. doi: 10.17650/2313-805X-2018-5-2-50-61
- Breiman L. Random Forests. Machine Learning. 2001;45:5-32. doi: 10.1023/A:1010933404324
- Ecker J, Benedetti E, Kindt ASD, et al. The Colorectal Cancer Lipidome: Identification of a Robust Tumor-Specific Lipid Species Signature. Gastroenterology. 2021;161(3):910-23.e19. doi: 10.1053/j.gastro.2021.05.009
- Machala M, Procházková J, Hofmanová J, et al. Colon cancer and perturbations of the sphingolipid metabolism. Int J Mol Sci. 2019;20:6051. doi: 10.3390/ijms20236051
- Bandu R, Mok HJ, Kim KP. Phospholipids as cancer biomarkers: Mass spectrometry-based analysis. Mass Spectrom. Rev. 2018;37:107-38. doi: 10.1002/mas.21510
- Mirnezami R, Spagou K, Vorkas PA, et al. Chemical mapping of the colorectal cancer microenvironment via MALDI imaging mass spectrometry (MALDI-MSI) reveals novel cancer-associated field effects. Mol Oncol. 2014;8:39-49. doi: 10.1016/j.molonc.2013.08.010
- Hoy AJ, Nagarajan SR, Butler LM. Tumour fatty acid metabolism in the context of therapy resistance and obesity. Nat Rev Cancer. 2021;21(12):753-66. doi: 10.1038/s41568-021-00388-4
- Zhao G, Tan Y, Cardenas H, et al. Ovarian cancer cell fate regulation by the dynamics between saturated and unsaturated fatty acids. Proc Natl Acad Sci USA. 2022;119(41):e2203480119. doi: 10.1073/pnas.2203480119
- Igal RA. Stearoyl-CoA desaturase-1: a novel key player in the mechanisms of cell proliferation, programmed cell death and transformation to cancer. Carcinogenesis. 2010;31(9):1509-15. doi: 10.1093/carcin/bgq131
- Gradilla AC, Sanchez-Hernandez D, Brunt L, Scholpp S. From top to bottom: Cell polarity in Hedgehog and Wnt trafficking. BMC Biol. 2018;16(1):37. doi: 10.1186/s12915-018-0511-x
- Doll S, Freitas FP, Shah R, et al. FSP1 is a glutathione-independent ferroptosis suppressor. Nature. 2019;575(7784):693-8. doi: 10.1038/s41586-019-1707-0
- Aglago EK, Murphy N, Huybrechts I, et al. Dietary intake and plasma phospholipid concentrations of saturated, monounsaturated and trans fatty acids and colorectal cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition cohort. Int J Cancer. 2021. doi: 10.1002/ijc.33615
- Du W, Hua F, Li X, et al. Loss of Optineurin Drives Cancer Immune Evasion via Palmitoylation-Dependent IFNGR1 Lysosomal Sorting and Degradation. Cancer Discov. 2021;11(7):1826-43. doi: 10.1158/2159-8290.CD-20-1571
- Zhang M, Zhou L, Xu Y, et al. A STAT3 palmitoylation cycle promotes TH17 differentiation and colitis. Nature. 2020;586(7829):434-9. doi: 10.1038/s41586-020-2799-2
- Zhang Q, Yang X, Wu J, et al. Reprogramming of palmitic acid induced by dephosphorylation of ACOX1 promotes β-catenin palmitoylation to drive colorectal cancer progression. Cell Discov. 2023;9(1):26. doi: 10.1038/s41421-022-00515-x
- De Araujo Junior RF, Eich C, Jorquera C, et al. Ceramide and palmitic acid inhibit macrophage-mediated epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer. Mol Cell Biochem. 2020;468(1-2):153-68. doi: 10.1007/s11010-020-03719-5
- Yu G, Luo H, Zhang N, et al. Loss of p53 Sensitizes Cells to Palmitic Acid-Induced Apoptosis by Reactive Oxygen Species Accumulation. Int J Mol Sci. 2019;20(24):6268. doi: 10.3390/ijms20246268
- Deng S, Wang J, Zou F, et al. Palmitic Acid Accumulation Activates Fibroblasts and Promotes Matrix Stiffness in Colorectal Cancer. Cancer Res. 2025;85(10):1784-802. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-24-2892
- Cockbain AJ, Toogood GJ, Hull MA. Omega-3 polyunsaturated fatty acids for the treatment and prevention of colorectal cancer. Gut. 2012;61(1):135-49. doi: 10.1136/gut.2010.233718
- Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. Biochim Biophys Acta. 2015;1851(4):469-84. doi: 10.1016/j.bbalip.2014.08.010
- D'Angelo S, Motti ML, Meccariello R. ω-3 and ω-6 Polyunsaturated Fatty Acids, Obesity and Cancer. Nutrients. 2020;12(9):2751. doi: 10.3390/nu12092751
- Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochem Soc Trans. 2017;45(5):1105-15. doi: 10.1042/BST20160474
- Volpato M, Hull MA. Omega-3 polyunsaturated fatty acids as adjuvant therapy of colorectal cancer. Cancer Metastasis Rev. 2018;37(2-3): 545-55. doi: 10.1007/s10555-018-9744-y
- Mayer K, Seeger W. Fish oil in critical illness. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11(2):121-7. doi: 10.1097/MCO.0b013e3282f4cdc6
- Singer P, Shapiro H, Theilla M, et al. Anti-inflammatory properties of omega-3 fatty acids in critical illness: novel mechanisms and an integrative perspective. Intensive Care Med. 2008;34(9):1580-92. doi: 10.1007/s00134-008-1142-4
- Guo Y, Ma B, Li X, et al. n-3 PUFA can reduce IL-6 and TNF levels in patients with cancer. Br J Nutr. 2023;129(1):54-65. doi: 10.1017/S0007114522000575
- Kavyani Z, Musazadeh V, Fathi S, et al. Efficacy of the omega-3 fatty acids supplementation on inflammatory biomarkers: An umbrella meta-analysis. Int Immunopharmacol. 2022;111:109104. doi: 10.1016/j.intimp.2022.109104
- Chiang N, Serhan CN. Structural elucidation and physiologic functions of specialized pro-resolving mediators and their receptors. Mol Aspects Med. 2017;58:114-29. doi: 10.1016/j.mam.2017.03.005
- Lam CN, Watt AE, Isenring EA, et al. The effect of oral omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation on muscle maintenance and quality of life in patients with cancer: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2021;40(6):3815-26. doi: 10.1016/j.clnu.2021.04.031
- Lee SY, Lee J, Park HM, et al. Impact of Preoperative Immunonutrition on the Outcomes of Colon Cancer Surgery: Results from a Randomized Controlled Trial. Ann Surg. 2023;277(3):381-6. doi: 10.1097/SLA.0000000000005140
- Pradelli L, Mayer K, Klek S, et al. Omega-3 fatty acids in parenteral nutrition – A systematic review with network meta-analysis on clinical outcomes. Clin Nutr. 2023;42(4):590-9. doi: 10.1016/j.clnu.2023.02.008
- Bakker N, van den Helder RS, Stoutjesdijk E, et al. Effects of perioperative intravenous ω-3 fatty acids in colon cancer patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Am J Clin Nutr. 2020;111(2):385-95. doi: 10.1093/ajcn/nqz281
- Hofmanová J, Slavík J, Ciganek M, et al. Complex Alterations of Fatty Acid Metabolism and Phospholipidome Uncovered in Isolated Colon Cancer Epithelial Cells. Int J Mol Sci. 2021;22(13):6650. doi: 10.3390/ijms22136650
- Cottet V, Vaysse C, Scherrer ML, et al. Fatty acid composition of adipose tissue and colorectal cancer: a case-control study. Am J Clin Nutr. 2015;101(1):192-201. doi: 10.3945/ajcn.114.088948
- Liu H, Chen J, Shao W, et al. Efficacy and safety of Omega-3 polyunsaturated fatty acids in adjuvant treatments for colorectal cancer: A meta-analysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol. 2023;14:1004465. doi: 10.3389/fphar.2023.1004465
- Yessoufou A, Plé A, Moutairou K, et al. Docosahexaenoic acid reduces suppressive and migratory functions of CD4+CD25+ regulatory T-cells. J Lipid Res. 2009;50(12):2377-88. doi: 10.1194/jlr.M900101-JLR200
- Woodworth HL, McCaskey SJ, Duriancik DM, et al. Dietary fish oil alters T lymphocyte cell populations and exacerbates disease in a mouse model of inflammatory colitis. Cancer Res. 2010;70(20):7960-9. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-10-1396
- Wang D, Dubois RN. Eicosanoids and cancer. Nat Rev Cancer. 2010;10(3):181-93. doi: 10.1038/nrc2809
- Il Lee S, Zuo X, Shureiqi I. 15-Lipoxygenase-1 as a tumor suppressor gene in colon cancer: is the verdict in? Cancer Metastasis Rev. 2011; 30(3-4):481-91. doi: 10.1007/s10555-011-9321-0
- Kim GY, Lee JW, Cho SH, et al. Role of the low-affinity leukotriene B4 receptor BLT2 in VEGF-induced angiogenesis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009;29(6):915-20. doi: 10.1161/ATVBAHA.109.185793
- Ihara A, Wada K, Yoneda M, et al. Blockade of leukotriene B4 signaling pathway induces apoptosis and suppresses cell proliferation in colon cancer. J Pharmacol Sci. 2007;103(1):24-32. doi: 10.1254/jphs.fp0060651
- Kundu JK, Surh YJ. Emerging avenues linking inflammation and cancer. Free Radic Biol Med. 2012;52(9):2013-37. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2012.02.035
- Xia D, Wang D, Kim SH, et al. Prostaglandin E2 promotes intestinal tumor growth via DNA methylation. Nat Med. 2012;18(2):224-6. doi: 10.1038/nm.2608
- Cen B, Lang JD, Du Y, et al. Prostaglandin E2 Induces miR675-5p to Promote Colorectal Tumor Metastasis via Modulation of p53 Expression. Gastroenterology. 2020;158(4):971-84.e10. doi: 10.1053/j.gastro.2019.11.013
- Tanaka T, Uozumi S, Morito K, et al. Metabolic conversion of C20 polymethylene-interrupted polyunsaturated fatty acids to essential fatty acids. Lipids. 2014;49(5):423-9. doi: 10.1007/s11745-014-3896-5
- Huang YS, Huang WC, Li CW, Chuang LT. Eicosadienoic acid differentially modulates production of pro-inflammatory modulators in murine macrophages. Mol Cell Biochem. 2011;358(1-2):85-94. doi: 10.1007/s11010-011-0924-0
- Wang L, Hang D, He X, et al. A prospective study of erythrocyte polyunsaturated fatty acids and risk of colorectal serrated polyps and conventional adenomas. Int J Cancer. 2021;148(1):57-66. doi: 10.1002/ijc.33190
- Soundararajan R, Maurin MM, Rodriguez-Silva J, et al. Integration of lipidomics with targeted, single cell, and spatial transcriptomics defines an unresolved pro-inflammatory state in colon cancer. Gut. 2025;74(4):586-602. doi: 10.1136/gutjnl-2024-332535
- Levy BD, Clish CB, Schmidt B, et al. Lipid mediator class switching during acute inflammation: signals in resolution. Nat Immunol. 2001;2:612-9. doi: 10.1038/89759
- Zhao W, Prijic S, Urban BC, et al. Candidate Antimetastasis Drugs Suppress the Metastatic Capacity of Breast Cancer Cells by Reducing Membrane Fluidity. Cancer Res. 2016;76(7):2037-49. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-1970
- Yang Z, Qin W, Chen Y, et al. Cholesterol inhibits hepatocellular carcinoma invasion and metastasis by promoting CD44 localization in lipid rafts. Cancer Lett. 2018;429:66-77. doi: 10.1016/j.canlet.2018.04.038
- Moleón Baca JA, Ontiveros Ortega A, Aránega Jiménez A, Granados Principal S. Cells electric charge analyses define specific properties for cancer cells activity. Bioelectrochemistry. 2022;144:108028. doi: 10.1016/j.bioelechem.2021.108028
- Moreddu R. Nanotechnology and Cancer Bioelectricity: Bridging the Gap Between Biology and Translational Medicine. Adv Sci (Weinh). 2024;11(1):e2304110. doi: 10.1002/advs.202304110
- Chaudhary P, Maharjan N, Subedi B. Microangiopathic Hemolytic Anemia as the Initial Presentation of Metastatic Signet-Ring Cell Carcinoma of the Colon: A Case Report. Cureus. 2024;16(12):e76034. doi: 10.7759/cureus.76034
- Horne MK 3rd, Cooper B. Microangiopathic hemolytic anemia with metastatic adenocarcinoma: response to chemotherapy. South Med J. 1982;75(4):503-4. doi: 10.1097/00007611-198204000-00040
- Ghirmai S, Krona A, Wu H, et al. Relationship between hemolysis and lipid oxidation in red blood cell-spiked fish muscle; dependance on pH and blood plasma. Sci Rep. 2024;14(1):1943. doi: 10.1038/s41598-024-52090-8
- Lee RA, Kim HA, Kang BY, Kim KH. Hemoglobin induces colon cancer cell proliferation by release of reactive oxygen species. World J Gastroenterol. 2006;12(35):5644-50. doi: 10.3748/wjg.v12.i35.5644
- Koukourakis MI, Giatromanolaki A, Polychronidis A, et al. Endogenous markers of hypoxia/anaerobic metabolism and anemia in primary colorectal cancer. Cancer Sci. 2006;97(7):582-8. doi: 10.1111/j.1349-7006.2006.00220.x
- Bastide NM, Pierre FH, Corpet DE. Heme iron from meat and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a review of the mechanisms involved. Cancer Prev Res (Phila). 2011;4(2):177-84. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-10-0113
- Xue X, Shah YM. Intestinal iron homeostasis and colon tumorigenesis. Nutrients. 2013;5(7):2333-51. doi: 10.3390/nu5072333
- Kucharzewski M, Braziewicz J, Majewska U, Gózdz S. Iron concentrations in intestinal cancer tissue and in colon and rectum polyps. Biol Trace Elem Res. 2003;95(1):19-28. doi: 10.1385/BTER:95:1:19
- McSorley ST, Tham A, Steele CW, et al. Quantitative data on red cell measures of iron status and their relation to the magnitude of the systemic inflammatory response and survival in patients with colorectal cancer. Eur J Surg Oncol. 2019;45(7):1205-11. doi: 10.1016/j.ejso.2019.02.027
Дополнительные файлы